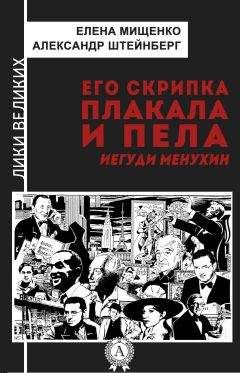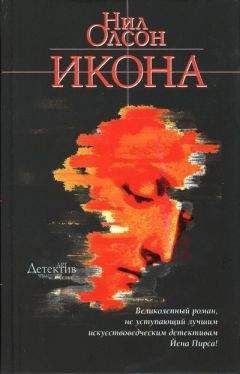Иегуди Менухин - Странствия
Бог знает, почему меня так преследовала мысль о несчастье. Может быть, сама наша спокойная жизнь наводила на мысль, что за нее придется расплачиваться; или тесная семейная сплоченность рисовала противоположные картины жуткого распада. Я думаю, такая была у меня натура, беспокойная и беспокоящая других. Мне нужно было, чтобы все имело смысл и чтобы этот смысл был ясен. Некоторые вопросы меня сильно озадачивали — почему зелень зеленая, например, или куда девается вес сгоревшего бензина, или в чем смысл бессмысленности жизни — и я мусолил их часами. Своими недоумениями я иногда делился со взрослыми, но взрослые оказывались такими несведущими, например, в вопросе о зелени, что я заподозрил существование заговора: не открывать детям главные тайны природы. Мне не приходило в голову, что есть загадки, не имеющие ответа, над которыми безуспешно бились бессчетные поколения людей; как не приходило в голову и то, что мои родители, быть может, не всеведущи.
К счастью, у меня были сестры. Всегда готовые выслушать все, что бы я им не сообщал: мои взгляды на музыку, и правила игр, и что можно полететь на Луну в космическом корабле из алмазов, поскольку, как я считал, это единственный материал, способный выдержать такой перелет, — и все почтительно принять на веру. У меня было самое завидное положение в семье: я — единственный мальчик, притом первенец, надо мной стоят двое старших, а подо мной двое младших — симметрия любви и преданности, надежно ограждающая с обеих сторон.
Здравый смысл говорит, что Хефцибе должно было исполниться два или три года, а мне шесть или семь, прежде чем между нами могло установиться осмысленное общение; но у меня в памяти нет разрыва между новорожденной малюткой, на которую я смотрел с восхищением и радостью, и постоянной подругой моих игр, моим вторым “я”, таким близким, что я не ощущал ее прикосновения, когда ее рука оказывалась в моей. Хефциба (чье имя означает “желанная”) всегда понимала других людей. Это делало ее в детстве самой лучшей дочерью и сестрой, на лету схватывающей намек, угадывающей желания; а во взрослой жизни эта черта находила выражение в склонности к социальной работе и, вне службы, в теплом и спокойном обхождении, и всякому было с ней легко и приятно. Что же до Ялты, то ей, хрупкой и капризной там, где Хефциба была надежной и ответственной, встретились при вступлении в жизнь две трудности: мамино разочарование, что она не мальчик (тень этого недовольства сохранилась вопреки маминому старательно равному обращению с обеими дочерьми), и неизбежное положение третьей лишней при нашей с Хефцибой уже установившейся дружбе вдвоем. Я бы предпочел в этом не признаваться, но на самом деле мы часто ею помыкали, это факт. Мы любили Ялту и были жестоки с ней, а она спасалась перед зеркалом, расчесывая и сплетая свои длинные белокурые волосы. Единственную непокорную из нас троих и самую большую выдумщицу неумолимая действительность то и дело отрывала от фантазий и возвращала к реальности.
Не могу сказать, чтобы в нашей семье совсем отсутствовал восточный дух почитания мужчин. Но он, как ни странно, не влиял на то, как мы, дети, могли и должны были себя вести. В этом отношении взгляды матери восходили больше к идее равноправия женщин, чем к обычаям предков. Сестер не учили женским искусствам, ни кухонным, ни салонным, в хозяйстве они были так же беспомощны, как я. (Потом это не мешало им, когда они выросли и стали женами, матерями и хозяйками.) Учились они дома тому же, что и я, только скрипку заменяло фортепиано, и на упражнения отводилось меньше времени. Выезды устраивались для всех троих — на концерты, на ежегодные представления в цирк, время от времени в кинотеатр на Филмор-стрит, где игра пианиста еще сопровождала немую драму на мелькающем экране. У нас были одни и те же часы для игр, упражнений и учебы, и до тех пор, пока у меня не начались гастроли, мы всегда были вместе, и неоспоримым вождем был я.
Конечно, мы заменяли друг дружке товарищей, которыми обзавелись бы, ходи мы в школу, однако и знакомые дети у нас тоже были. Мама, мать троих детей, все же сохраняла интерес и к чужим детям, только не всегда имела возможность его проявлять. Когда кто-нибудь из нас обзаводился новым педагогом или покровителем, мы все знакомились с его или ее семьей, например, по воскресеньям мы являлись в гости к Персингеру и играли с его детьми, а иногда все вместе отправлялись на пикник. Эти развлечения не нарушали нашего расписания, в нем просто были предусмотрены подходящие щели, а вот для чужих и малознакомых людей никаких щелей не было. Строго соблюдать расписание полагалось у нас не только детям, но и родителям. Лишь в самых редких случаях мама и папа позволяли себе уступить своему естественному желанию провести вечер в обществе других взрослых. А обычно наши родители были неотступно с нами и всегда к нашим услугам. В результате существование наше было тихим, замкнутым и так прочно отгороженным от мира, что любое событие, нарушающее размеренный ход вещей, производило огромный переполох. Одним из таких нарушений порядка было мое знакомство с композитором Эрнестом Блохом.
Даже в жизни, полной событий, фигура Блоха была бы незабываема. Он напоминал ветхозаветного пророка: речь его гремела громом, взор разил, как молния, и весь облик был полон небесного огня, способного при случае испепелить стоящего рядом. Я неоднократно виделся с ним в последующие годы, так что портрет, рисуемый здесь, — это палимпсест многих встреч, но теперь не восстановить моего прежнего простодушного взгляда, перед которым он предстал впервые. Помню, однако, что тогда, сорокалетний, он казался мне воплощенным библейским патриархом. Прелюдией к нашему с ним знакомству послужило приглашение в гости к мистеру Лихтенштейну, концертмейстеру группы альтов в Сан-Францисском оркестре и доброму приятелю Блоха. В тот раз мне больше запомнился самый факт пребывания в гостях, в то время когда полагалось спать, а не что именно композитор говорил, если говорил, и что я ему играл, если вообще играл. А несколько дней спустя Блох позвонил у нашего парадного крыльца на Стейнер-стрит, помахивая исписанными листами нотной бумаги, на которых еще не просохли чернила. “Авода”, что значит “Священный труд”, — первое музыкальное произведение, посвященное мне. Читатель легко представит себе волнение и благодарность, которые я испытал. До сих пор я играл произведения композиторов давно умерших, или, во всяком случае, мне не знакомых, а тут сочинение живого композитора и написанное специально для меня! Естественно, я был взбудоражен и горд. В дальнейшем я исполнял эту вещь множество раз во многих странах мира.
Музыка никогда не была для меня чем-то отвлеченным. В то время, например, она выражала нечто неведомое, какие-то мне не известные края и путешествия вне пределов моего детского опыта. Такой была и музыка Блоха, близкая мне своим еврейством, но дышащая огромными расстояниями и просторами. И по-моему, мои впечатления были верны. Различия между тем, каким человек кажется другим, и тем, как он представляет себя сам, подчас довольно велики. И то и другое может быть излишней крайностью. Так, по-видимому, было и с Эрнестом Блохом. Он пользовался громкой известностью как великий еврейский композитор, а про себя считал, что больше других заслуживает звания композитора американского. Что он действительно очень крупный еврейский композитор — это правда, от которой ему было никуда не деться: его перу принадлежит музыка полного синагогального богослужения, благородное и очень трогательное сочинение; он написал еще много других произведений на еврейские темы; у него и наружность была соответствующая; но считать Блоха только еврейским композитором несправедливо, он был великим композитором без каких-либо ограничительных оговорок, знаменосцем мировой музыки, пришедшей на смену додекафонии и возвратившейся к контрапункту и ладовым сопоставлениям. Блох долго жил у индейцев в Нью-Мексико и глубоко изучил их музыку. Эти познания и вдохновение, в них почерпнутое, могут, он полагал, служить основанием, чтобы его считали более американским американцем, чем многие его сверстники-композиторы, пренебрегающие местным народным мелосом и опирающиеся исключительно на европейские музыкальные традиции. До того как был официально принят гимн Соединенных Штатов и еще колебались в выборе между “О тебе, моя Родина” и “Звездным знаменем”, Блох питал надежду, что тому и другому предпочтут гимнический финал его Четвертой симфонии. В этом счастье, как знает мир, ему было отказано. В конце концов остановили выбор на “Звездном знамени”. Во время Второй мировой войны мне доводилось играть его бессчетное множество раз, и я оценил его патриотические достоинства, но благородная сдержанность хорала “О тебе, моя Родина”, известного англичанам как “Боже, спаси Королеву”, мне больше по душе.