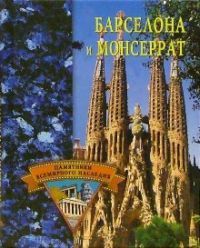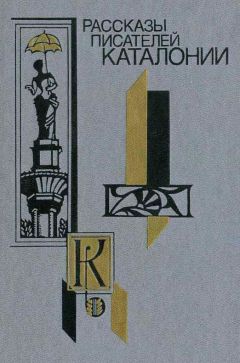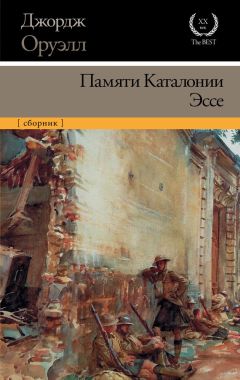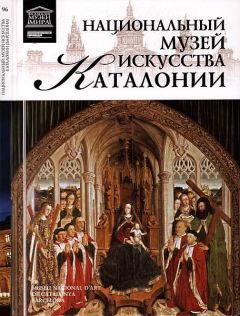Николай Федь - Литература мятежного века
До недавних пор к первой следует отнести умных, знающих людей. Среди них встречаются неплохо владеющие пером, обладающие вкусом. Не будь ленивы и малодушны, они смогли бы проявить себя на данном поприще самым достойным образом. Однако же главный их недостаток не столько в недостаточно широком взгляде и слабой связи с реальной действительностью, сколько в отсутствии всепобеждающей твердости и любви к русскому Слову. Отсюда - неуверенность, известная робость, а нередко противоречивость суждений.
Вторая категория состоит из бойкого и жизнерадостного люда, ревностно выполняющего социальный заказ и пишущего как угодно и что угодно. Для них нет разницы между талантом и графоманом, между гением и дремучей посредственностью, правдой и ложью. Они пишут на потребу дня. Возьмем хотя бы таких, как В. Оскоцкий, Е. Сидоров, Ю. Суровцев. Вездесущи и коварны, они ненавидят талантливых русских писателей, а в нынешнее смутное время чувствуют себя как рыба в воде. Из их рядов власть предержащая рекрутирует министров, членов Президентского совета, обозревателей, редакторов журналов. В этом ряду стоит особо отметить "подвиги" мадам Чудаковой, которую далеко небезупречная и видавшая виды столичная публика нарекла "прорехой на совести московской творческой интеллигенции". "Независимая газета" мрачно констатировала: на встрече президента с деятелями культуры Мариэтта Чудакова "посоветовала" Ельцину привлекать голоса избирательниц путем выплаты российским старухам "гробовых денег". Менять гробы на голоса - до этого даже Павел Иванович Чичиков недодумался"11.
И все-таки среди подвизавшихся на ниве изящной словесности 80-90-х, пожалуй, весьма занятная фигура В. Г. Бондаренко, представляющего, судя по его декларациям, патриотическую критическую мысль. На этом следует вкратце остановиться.
В конце 80-х годов мне уже приходилось писать о том, что в литературе идет скрытая жестокая гражданская война и недалек тот день, когда она вырвется наружу и станет общепризнанным фактом. С появлением пресловутого "Апреля" никто уже не сомневался, что она вошла в полную силу, разрушая национальные традиции, творческие достижения последних десятилетий и сея растерянность, равнодушие и пессимизм среди писателей и критиков. Впрочем, это стержневая проблема данной книги.
Но сейчас нелишне сказать еще об одной тенденции, бросающей густую тень на и без того сумеречное литературное бытие. Она, эта тенденция, отчетливо проявилась в сочинительстве Бондаренко, человека двоемысленного и непостоянного. "Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих" (Иак. 1, 8). Нас же интересуют его литературные взгляды, которые, правда, простираются далеко за пределы словесности; речь идет о противопоставлении так называемых "белых патриотов" и "красных", что носит в некотором роде провокационный характер, т. е. попытку раскола русских на два враждебных лагеря по новым признакам.
В Бондаренке тесно переплелись, по крайней мере, два начала - цинизм и изобретательность. Это он придумал термин "лучший писатель" (возможно, отталкиваясь от клише "лучший немец", "лучший друг Билл") и тут же прицепил его к творчеству 20-ти порою несовместимых по идейно-художественному миропониманию советско-русских писателей, как бы осуществив немыслимое впряг в телегу "коня и трепетную лань". Более того, пытался разделить творческую интеллигенцию на "наших" и "не наших", придав некий мистический смысл нестройным волнующимся рядам пишущей братии. Правда, осталось загадкой, какой критерий положен в основу определений "наши - не наши" и "лучшие писатели" - мировоззренческий, национальный, религиозный или, может быть, групповой, а точнее, стадный? Но какое это имеет значение. Главное, размах, широта лозунгового жеста - "Писатели всех направлений, убеждений и верований, объединяйтесь!". Меж тем в колонне "наших" и, само собой, "лучших" шествуют небезызвестная русофобка Мария Розанова и Эдуард Лимонов, Станислав Куняев, Феликс Кузнецов и Вячеслав Клыков, Валентин Распутин, Михаил Назаров и Солженицын, Юрий Бондарев и Игорь Шафаревич... Словом, литературный ноев ковчег а-ля Бондаренко.
Человечество еще не знало человеколюбов, равных Вове. Всех он любит, всех готов обнять и согреть, разумеется, кроме "красных", коих ненавидит всеми фибрами своей широкой и, само собой разумеется, доброй души. Поэтому никого не удивила его прекрасная статья "Япончик как символ русского сопротивления" ("Завтра", № 6 (167), в которой он писал: "Япончик уголовный авторитет, "вор в законе" (...) Для нас он становится - символом сопротивления (...) Думаю, "Лимонка" вполне могла бы поместить во всю полосу портрет этого национального героя" - и далее рекомендует суду и молодежи предпринять ряд активных мер "до тех пор, пока... легендарного... Япончика не освободят". Однако же вряд ли нуждается этот достойнейший человек в услугах литературных критиков, которые готовы завтра же к противоположным акциям... Проще говоря, В. Г. Бондаренко - адепт фарисейского патриотизма.
А сейчас о другом, не менее характерном. Что есть Зоил, именем коего Бондаренко любит подписывать свои самые, можно сказать, доблестные заметки? Зоил, гласит история, злобный критик (270 г. до рождения Христа), оставивший по себе недобрую память своими бранными нападками на сочинения Платона, Изократа и особенно Гомера. Никакие увещевания и угрозы не поколебали его, и он был заживо сожжен. Вот она, страсть: себялюбивые взгляды ценил дороже собственной жизни (Зоил-Бондаренко, как увидим далее, оказался жидковат насчет твердости духа). В одной из пушкинских эпиграмм имя Зоила возникает в таком контексте:
Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный Зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.
В нашем случае - это лицо в некотором роде страдательное, вызывающее ржанье и рукоприкладство иных "классиков", а посему достойное скорее сочувствия и жалости, чем презрения. Судите сами. В конце 1995 года известная обнаученная посредственность, разгневанная резкой, но справедливой статьей, к вящему удовольствию Владимира Солоухина, "вмазала", по его словам, Бондаренко, и "тот" "съел", проглотил и на дуэль (за пощечину!) Палиевского не вызвал". Неужто душа в пятки ушла? Ну какой он Зоил - Володя Бондаренко - после всего этого - как бы он ни надувался и ни пыжился. Не тянет он на Зоила; так себе, - суетливый человек. Отсюда его стремление прислониться к кому-нибудь: Шафаревичу, Солженицыну, Распутину; а в остальном хороший парень, по словам прославленного Льва Котюкова, "наш покровитель и главарь".
В свое время Флобер высказывал пожелание, чтобы критики обладали большим воображением и большой добротой, наконец, вкусом - качеством, которое является весьма редким даже у самых лучших среди них. Особенно возмущало писателя, когда на одну доску ставят и шедевр и малохудожественную поделку, когда превозносят бездарное сочинение, тем самым принижая подлинное искусство - это не только глупо, но и аморально.
Будем правдивы до конца: недостаточно высокий уровень критики определяется не только субъективными факторами, но и объективными условиями ее развития. С одной стороны, идеологические бонзы оказывали на пишущих о литературе постоянное и порою грубое давление, превращая их в литкомиссаров, регламентирующих художественный процесс, а с другой довлело высокомерное, пренебрежительное отношение к труду критика писательской верхушки. Это с особой наглядностью проявилось в 80-90-е годы, когда окончательно деградировала дореволюционная традиция равноправия и взаимоуважения между художником и исследователем - не на словах, а на деле. Невольно приходит грустная мысль о духовной культуре и интеллектуальном уровне "инженеров человеческих душ" двух последних десятилетий. Речь, повторим, о положении литературной критики, а не об оправдании ее просчетов.
* * *
Подобную эволюцию испытала и литературная теория, охваченная эпидемией разрушительного отрицания в период крушения социалистической эстетики и демонстрирующая варварский примитивизм эстетических взглядов постсоветского периода. Вместе с общими принципами соцреализма выплеснули и главные традиционные ценности: критерии прекрасного и художественности, жанровости, художественной правды и другие. На литературу обрушился шквал пошлой безвкусицы и злой тенденциозности, изобличая отсутствие эстетического вкуса, узость взглядов и невежество теоретиков. Главный акцент перенесли не на истолкование специфики, сущности задач и цели литературы, а на умаление ее роли в жизни и полную свободу творчества, на отторжение от насущных общественных задач и на отлучение литературы от политики.
Со всей очевидностью проявилось это на Пленуме писателей России в речи зам. директора ИМЛИ П. В. Палиевского, неожиданно обнаружившего воинственность убеждений и пылкость натуры (октябрь 1994 г.). Фигура сего оратора выбрана нами не случайно. Среди определенной части ученой братии в 70-80-е годы он прослыл в некотором роде светилом академического литературоведения, что свидетельствует об общем уровне литературной теории. Ныне его звезда закатилась - разобрались: король-то голый. Хотя, как увидим, апологеты старых мифов еще не перевелись. Весь смысл его выступления свелся к противопоставлению литературы и политики, к недвусмысленной попытке вытравить из художественного творчества гражданский пафос. Оказывается, он весьма недоволен тем, что "политический взгляд исходит не только от критиков, политиков, но и даже писателей". Это, конечно, безобразие. "И я повторяю, что подобное отношение, - продолжал оратор, - глушит часто те резервы, те колоссальные ценности, которые были созданы в русской культуре и литературе... Все-таки слишком резкое употребление (!) писателя в политике, и даже в современной литературе, оно заглушается громом и шумом непосредственной политической борьбы... Великие писатели, подобные Шолохову, Есенину или Булгакову, они держались совсем иных взглядов. Они никогда не совпадали (?) ни с какой - частной, местной или политической - доктриной времени и действительно выражали центральные судьбы народа - некоторых писателей это раздергивание (?) политическое загоняло в темный, никому (?) не известный угол". За этой туманной фразеологией, как говорится, не видно ни зги.