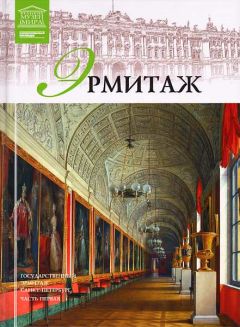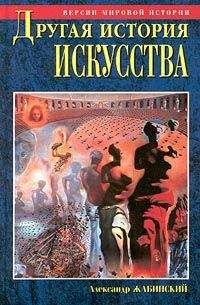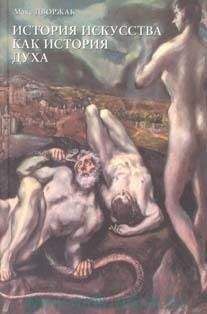Творение. История искусства с самого начала - Стонард Джон-Пол
Интерес Лоуренса к истории чернокожего населения пробудили лекции, которые он слушал в публичной библиотеке на 135-й улице, за чем последовало более тщательное изучение биографий афроамериканцев, первыми пробивших путь к вершинам политики. В 1930-е годы он завершил серию картин, посвященных Туссену-Лувертюру, основателю Гаити как первой черной республики, а также борцам за свободу Фредерику Дугласу и Гарриет Табмен — ведущим представителям движения против рабства XIX века. С помощью наглядных, ясных образов и детальных подписей картины Лоуренса рассказывают о жизни этих исторических персонажей, особенно в серии 1941 года «Миграция негров», в которой история его семьи сплетается с историей обширной миграции чернокожих с американского юга на север и в Гарлем.
Он также запечатлел Гарлем своего времени в серии из тридцати картин, выполненных в той же уплощенной, угловатой манере. Мы видим сцену, как фотограф, установив свой штатив на улице, снимает зажиточную пару, которая замирает на месте от внезапного блеска лампы-вспышки. В акварели 1942 года Лоуренс запечатлел бизнесмена и строителя, фургон доставки и спускающихся в люк рабочих, лошадь, запряженную в телегу и везущую кровать. Перемещение — непрерывный процесс современного города. Эти сцены и фигуры обладают «лаконичной силой абстрактных символов», как писал о Лоуренсе в то время Джеймс Амос Портер, его коллега-художник [548].
Гарлем был запечатлен и на фотографиях Джеймса Ван Дер Зее — возможно, именно его Лоуренс изобразил на своей картине как фотографа. Однако сам Лоуренс работал в решительно нефотографическом ключе, создавая образы, которые предлагали альтернативу фотографическому натурализму — тому типу изображений, которые к середине 1940-х годов проникали во все сферы жизни. Мондриан тоже неявно отвергал фотографию. Слово «абстракция» слишком слабо описывает его живопись — ненатуралистичную, нефотографическую, самодостаточную в том смысле, в каком это понимал Матисс: прежде всего она физически присутствует, а не отсылает к чему-то другому и не служит окном в мир.

Джейкоб Лоуренс. Фотограф. 1942. Акварель, гуашь, графит, бумага. 56,2 × 77,5 см
Эти художники стремились придумать технику для кодирования своего восприятия. Мастерство Лоуренса в его владении акварелью и темперой — красителем, смешанным с яичным белком, — придает «его поверхностям твердость и блеск, — пишет Портер, — которые мы находим в персидской плиточной керамике или итальянских фресках» [549]. И действительно, его картины рассказывают истории так же, как религиозная фресковая живопись Мазаччо и других итальянских художников XV века, укореняя эти истории в современном им мире. Именно среда, в которой жил художник, а не его теоретические построения, порождала формы живописи и скульптуры XX века. Даже Мондриан, самый аскетичный из живописцев, не избежал влияния энергии нового мира, окружавшего его в Нью-Йорке. При всех своих различиях, и Лоуренс и Мондриан почувствовали в середине XX века нечто очень важное — ощущение неизбежных перемен, подъема нового демократического мира. Если Мондриан воспринимал новую энергию, которую можно было вдохнуть в геометрическую живопись, энергию, которой наполнялся сам город, то Лоуренса интересовала энергия иного рода: политика народной жизни и человеческая борьба. В начале 1940-х годов мир находился в состоянии войны с самим собой, и развернувшиеся трагедии человеческой жизни и мира природы будут определять образы искусства до конца века.
Глава 27. После травмы

Георг Базелиц. Пастух. 1965, печать 1972. Офорт, сухая игла, акватинта. 44 × 31,8 см. Тираж 60, издатель Хайнер Фридрих
На фоне пейзажа бродит фигура, на ней изорванная одежда, изможденные голодом конечности стынут от холода. Дым стелется над обугленными полями, над руинами домов, улиц, целых городов и поселков, вывернутых наизнанку разрушительной войной.
Более сорока миллионов человек были убиты во время Второй мировой войны, отмеченной ужасами Холокоста и лагерей смерти, страшным голодом, атомными бомбами над Хиросимой и Нагасаки, бомбардировками гражданского населения с воздуха. Перед лицом такого тотального разрушения сама человеческая жизнь, казалось, свелась к частичкам пепла.
Если в начале XX века художники исследовали работу человеческого разума — то, как мы видим, думаем, мечтаем, — то после 1945 года само человеческое тело стало объектом внимания, толкования и воссоздания. Сначала это был вопрос фиксации состояния разбитого, оскверненного тела, боли от бесчисленных смертей. Единственным простым и страшным символом этого стал кричащий человеческий рот: это была человеческая жизнь, сведенная к животной боли.
Человеческое тело изображалось так, словно его втоптали в грязь. Картина «Метафизикс», созданная французским художником Жаном Дюбюффе в 1950 году, представляет тело женщины, изуродованное самым чудовищным, самым жестоким образом, распластанное, с вывернутыми наружу внутренними органами, с оскаленным лицом, похожим на череп. Ее тело взорвано реальным актом насилия, а не интеллектуальным раскрытием объекта в пространстве кубистской живописи — это настоящее жестокое убийство.
Дюбюффе называл свой грубый стиль живописи ар-брют, так же как и те любительские, неакадемичные изображения, которые он собирал: работы, созданные душевнобольными, детьми и непрофессиональными художниками, цель которых была лишь в передаче их внутренних, личных видений. Как и Пауль Клее до войны, в этих эксцентричных образах он видел скрытую ценность, поскольку они затрагивали самую суть человека, часто скрытую в искусно написанных профессиональных, академических работах. Они создавали те самые «эквиваленты» жизни в ее истинном виде, в сырой непосредственности граффити — рисунка, наспех нацарапанного на стене.

Жан Дюбюффе. Метафизикс. Серия «Женские тела». 1950. Масло, холст. 116 × 90 см
В последние дни немецкой оккупации в психиатрической больнице на окраине Парижа художник Жан Фотрие, основываясь на своих знаниях о пытках и казнях гестапо в соседних лесах, создал серию из четырех десятков картин: «Головы заложников». Выполненные маслом по засохшей корке белой массы, напоминавшей штукатурку, эти непроницаемые образы говорят о невозможности изображения крайних состояний человека и вместе с тем переходят в изящные образы увядшей природы. Эта манера Фотрие возникла в том числе в ответ на открытие в 1940-х годах доисторических рисунков и живописи во французских пещерах Ласко — их грубая элегантность и настоятельная прямота создают параллель между зарей человечества и оголенным существованием послевоенной Европы.
Как мы уже знаем, первые попытки найти искренний образ человеческого тела начались для Альберто Джакометти еще до войны, словно он предвидел, что должно произойти. Его фигурки толщиной не больше пальца, грубо выделанные, покрытые шрамами, стоящие на огромных расплющенных ступнях и почти не имеющие головы — это человечество, сведенное к единственному местоимению «я» и единственному глаголу «есть». В композиции «Поляна» («La Clairière») мы видим девять стоящих фигур на тонкой плите, их формы нечеткие, словно проглядывающие сквозь марево или далекую дымку. Они воплощают первобытную истину человеческого тела — прямостоящее животное, выделяющееся на фоне окружающего ландшафта, подобно первым оседлым поселенцам с их вертикальными камнями, — хотя у Джакометти эти признаки жизни как будто дрожат от хрупкости, разъедаемые неотвратимостью своего исчезновения.