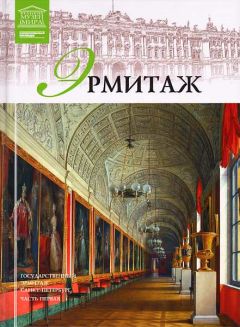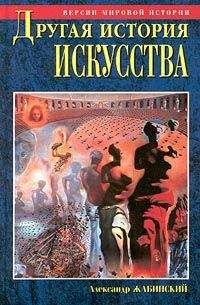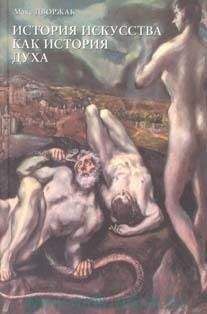Творение. История искусства с самого начала - Стонард Джон-Пол
Фрида Кало. Автопортрет с обезьяной. 1938. Масло, холст. 40, 6 × 30,5 см
Футуристы поддерживали Первую мировую войну, которая тем не менее унесла жизнь одного из их величайших художников, Умберто Боччони. В других странах энергия войны была обращена против нее самой, превратившись в огонь политического протеста. В Швейцарии и Германии дадаисты выступали против традиций и ее условностей, делая всё возможное, чтобы уничтожить прошлое и выработать совершенно новое представление о том, что такое художник.
Энергия протеста дадаистов была прямой реакцией на ужасы Первой мировой войны, которая в результате применения механизированного оружия, впервые в истории, привела к гибели миллионов людей. Художники видели ужасы войны воочию и пытались их запечатлеть. В своей серии гравюр «Война» Отто Дикс постарался как можно непосредственнее показать ужасные увечья и страшную смерть людей в окопной войне, а также крах морали в обществе в целом. Он почувствовал себя в силах создавать такие изображения лишь в 1924 году, через шесть лет после окончания войны.
Четкого смыла слова «дада» никто не знал — оно обозначало стремление к иррациональному внутри группы, что в значительной степени диктовало манеру поведения, особенно во время проведенной ими Первой Международной дада-ярмарки, проходившей в Берлине в 1920 году в галерее Отто Бурхарда и организованной Георгом Гроссом, Раулем Хаусманом и Джоном Хартфилдом. Стены галереи были исписаны лозунгами: «Воспринимайте Дада всерьез!» — иронично призывал один из них, а сами картины были буквально собраны из газетных вырезок, представляя сатирическую карикатуру на современную жизнь и подчеркивая антивоенный, антибуржуазный посыл. «Если раньше огромное количество времени, любви и усилий тратилось на то, чтобы изобразить человеческое тело, цветок, шляпу, густую тень и прочее, то сегодня нам достаточно взять ножницы и вырезать из картин или фотографий то, что нам нужно», — писал поэт и дадаист Виланд Херцфельде в предисловии к каталогу [539]. Это была выставка-продажа, однако была продана лишь одна работа (впоследствии утраченная), а на организаторов подали в суд за клевету на военных — хотя, с точки зрения дадаистов, это был хороший результат.
Джон Хартфилд, Рауль Хаусман и Ханна Хёх брали фотографии и репродукции из газет, вырезали и склеивали их, создавая фотомонтажи с броским посылом: так, коллажи Джона Хартфилда кричали об угрозе демократии и рабочему классу со стороны фашизма и авторитарной политики. Их вдохновляло творчество русских художников, в частности, Александра Родченко, который осудил традиционные формы искусства, выведя конструктивизм за рамки живописи Малевича и скульптуры Татлина в сферу фотомонтажа и продвинувшись гораздо дальше сравнительно приличных выдумок Пикассо и Брака. Коллажи Хартфилда, как и произведения его коллег-дадаистов, основывались на потоке фотографических изображений, наводнивших современное общество, и показывали, как легко можно манипулировать этими изображениями в политических целях. Ханна Хёх создала визуальный компендиум германской политики, последовавшей за окончанием войны и пролетарских революций 1919 года, в своем коллаже «Разрез кухонным дада-ножом пивного живота Веймарской республики», который был выставлен в следующем году на Первой Международной дада-ярмарке. Разрез, о котором идет речь в заголовке, проходил через эпохи и условности: Новая Женщина — раскрепощенная и свободная в передвижении — изображена рядом с вырезанными изображениями мужчин-политиков. В центре — фото из газетной статьи художницы Кэте Кольвиц, которая только что стала первой женщиной-профессором в Берлинской академии искусств. Во многих странах, в том числе в Германии и Великобритании (Норвегия опередила их несколькими годами ранее), женщины получали право голоса и теперь активно участвовали в жизни художественных кругов.
Хёх принадлежала к тому поколению женщин, которые впервые получили возможность участвовать в создании произведений искусства наравне с мужчинами, а не в качестве некоего исключения, уступки или приглашения с их стороны. Правда в том, что история изобразительного искусства, которая началась с возникновения оседлой жизни, то есть около 12 000 лет назад, — это лишь половина или даже меньшая часть той истории, что могла бы быть, учитывая, что подавляющее большинство изображений, созданных человеком на протяжении всего этого периода, было утрачено и сохранившееся — это в основном обломки времени. По тем скудным следам, что остались нам от первобытного человечества, от периодов охоты, собирательства, пещерного существования, можно предположить, что женщины играли более значительную роль в создании изображений. И наконец, в XX веке женщина-художник перестала быть исключением: это уже не просто талантливая дочь, жена или сестра состоявшегося художника, получившая разрешение продолжить карьеру, — всё чаще женщины становятся создателями образов, потому что представляют альтернативный взгляд на мир, где доминировали мужчины. Мы видели это на примере Мэри Кассат, Элизабет Виже-Лебрен и Проперции де Росси. В ХХ веке этот альтернативный взгляд обнажил предрассудки, заложенные в самом нашем мировосприятии и способе его представления. Предрассудки сохранились в языке, используемом для описания искусства прошлого, от «Ренессанса», то есть «возрождения» того искусства, которое создавалось исключительно художниками-мужчинами, до почитания «старых мастеров». Вынашивание и воспитание детей, а также опыт детства, занимающие центральное место в нашей жизни, считались маргинальными темами для произведений искусства, так что в западном искусстве единственным дозволенным изображением матери и ребенка было изображение женщины, забеременевшей, оставаясь при этом девственницей.
Именно эти истины, наряду с ужасами войны, решительно обнажались дадаистами и другими художниками во время больших реформационных волн, захлестнувших Германию в 1920-е годы. Художники создавали рискованные высказывания, отвечавшие потребности в новых голосах в новую демократическую эпоху.
Однако это не значит, что их хорошо принимала «обычная» публика. «Велосипедное колесо» Дюшана было утеряно в 1915 году, а «Фонтан», после того как его не приняли на выставку в 1917 году, был отдан неизвестно куда. Только в 1950-х годах реди-мейды вновь вышли на свет, обрели широкую известность и влияние. Даже картина «Авиньонские девицы» Пикассо почти два десятилетия хранилась в его мастерской и выставлялась всего один раз, прежде чем в 1924 году была продана французскому кутюрье Жаку Дусе.
Эти произведения шокировали как своей формой, так и содержанием. И всё же с наибольшей остротой и провидением этот шок выразился в литературе. Ни одно произведение тех лет, за исключением, пожалуй, «Авиньонских девиц» Пикассо, не было столь шокирующим, как «Улисс» — длинный роман Джеймса Джойса, в котором герой, Леопольд Блум, путешествует по Дублину в один из дней 1904 года. Мы вполне могли бы представить себе, как Блум посещает бордель на Каррер д'Авиньо. За основу книги Джойс взял эпизоды гомеровской «Одиссеи», используя их для пересказа событий жизни Блума, его жены, певицы Молли, у которой после обеда назначено свидание с ее гастрольным менеджером Блейзом Бойланом, и Стивена Дедала, автобиографического персонажа, известного по предыдущему роману Джойса «Портрет художника в юности».
Как и Одиссей, Блум — герой, хотя это героизм, опрокинутый в повседневный мир Дублина и описанный часто на непонятном языке с бесконечными отсылками и цитатами, так что «Улисс» кажется историей самого английского языка — и действительно, один из эпизодов, «Быки солнца», состоит из длинной череды пародий на английский язык на всех этапах его развития — от древних языческих форм через среднеанглийский и кельтские легенды и вплоть до критических трудов Джона Рёскина. Знаменитая заключительная часть романа — длинный грубый монолог Молли, лежащей в постели и неспособной заснуть, — является шокирующей кульминацией неустанного разрушения Джойсом условностей письма и морали. Однако здесь, как и в случае с разнузданными «Авиньонскими девицами» Пикассо, цель автора в том, чтобы достичь более глубокой формы творения — той, что возникает из глубин запрятанных воспоминаний, осколков детства и коллективной памяти, той долгой истории, которая нас сформировала. Именно об этом мы читаем у Джойса в переплетении фраз, в свободном потоке его слов, примером чему служит длинная часть, в которой Блум размышляет о происхождении воды при включении крана. Как говорит Стивен Дедал в начале романа: «Краеугольный вопрос о произведении искусства — какова глубина жизни, породившей его» {34}.