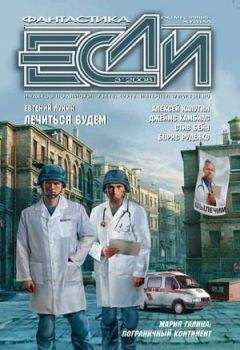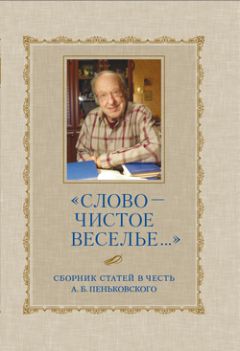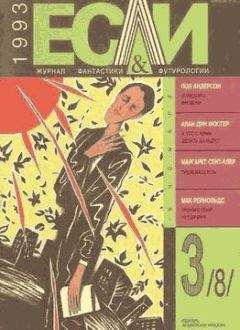Феликс Розинер - Гимн солнцу
Он начинает учиться именно у этих профессоров. Спустя месяц, 21 ноября, пишет несколько строк Марьяну Маркевичу:
«Пишу коротко, мало времени, да и у тебя не хочу отнимать. У меня все по-старому, только появилось много работы. У меня трое коллег: американец, англичанин, чех. С двумя первыми разговариваю по-английски и по-французски, а с третьим — по-чешски. Сам понимаешь, что сговориться почти не можем. Может, из-за этого мы и симпатизируем друг другу. Время бежит: работаю, играю, пою, читаю, и мне почти хорошо…»
Начало декабря — брату:
«У меня все хорошо, одно горе — с этими немцами не могу сговориться. Работаю, работаю, отнесу профессору сделанное, он пробурчит, и не знаю, выругали меня или похвалили. Но догадываюсь, что хорошо. На этой неделе у Рейнеке коллеги будут играть мои произведения. Напишу тебе, как это получилось, но особенно на успех не надеюсь, ведь немцы не любят наших мелодий. Я по этому поводу не огорчаюсь, лишь бы понравилось вам. Вечерами играю те свои вещи, которые вы любите, и мне кажется, что вы их слушаете, тогда и играть приятнее, и время бежит быстрее. Вообще мне тут хорошо, только нет у меня никаких знакомых, не с кем поговорить… Так мне легко и хорошо, так тебя и всех наших люблю, что описать невозможно. Ну, давай свою морду, Стаселе, до встречи. Пиши, как только будет время — хоть открытку. Твой Кастукас. Господам Маркевичам шлю свой привет. (У пана Марьяна теперь экзамены?)».
Тогда же — Э. Моравскому:
«…Рейнеке мною доволен, хоть и хвалит мало. Я на каждом уроке наблюдаю за ним и хорошо вижу, что он мною интересуется, доволен и рад. Но я злюсь на себя, на него, на всех, потому что то, что я им приношу, не стоит этого. Чувствую, что мог бы написать квартет в 100 раз лучший. Посоветуй что-либо. Очевидно, в субботу этот несчастный квартет будет исполнен… Можешь представить, какой это плохой квартет, если я ему совершенно не радуюсь и все думаю, как бы там что-нибудь поправить. Напишу тебе подробно, как его исполнили.
Эх, Геня, можешь мне позавидовать, во вторник в Гевандхаузе слушал „Иуду Маккавея“ Генделя. Не хотел верить ни ушам, ни глазам — мне почудилось, что я в другом мире. Оказывается, иногда на этой ничтожной земле около всяких мелочей существует столько величественного и чудесного. Эту ораторию нельзя себе представить — ее надо услышать…
Ты приедешь? Мой Генеле, подумай хорошо, пошевели небо и землю и приезжай. Ты там пропадешь, ничего не делая… Пиши, скотинушка, чаще, так как мне чем дальше, тем тяжелее».
Последние числа декабря 1901 года — Петру Маркевичу:
«Теперь я немного пишу. Озерцо в Друскининкае, по-моему, удалось. Потом написал море, где вдали исчезают корабли, но так как вода вышла слишком зеленой, а корабли угловатые, то, пару раз перечеркнув кистью, море превратил в луг, а корабли в избы, и сейчас у меня есть замечательная литовская деревня».
Михалу Огиньскому:
«Ваша светлость, господин Князь, прошу меня извинить, что решился без особой причины надоедать своими письмами, но не могу удержаться, чтоб не похвалиться. На прошлой неделе проф. Рейнеке, желая доставить мне удовольствие, велел ученикам консерватории исполнить мою композицию — струнный квартет. Большого удовольствия не получил, так как играли плохо, но, как бы там ни было, это говорит за то, что профессор мною интересуется, и мне самому кажется, что я сделал весьма большие успехи. Работаю много…»
Марьяну Маркевичу:
«Купил краски и холст. Наверно, хочешь сказать, что холст пригодился бы на что-то другое. Мой дорогой, я тоже чувствую угрызения совести из-за этих истраченных марок, но должен же я иметь на праздники какое-то развлечение».
В этих письмах, написанных Чюрленисом в конце года, многое соединилось для того как будто, чтобы разъединиться уже на будущий год… Он работает со свойственной ему одержимостью, но чем дальше, тем заметнее становится его обеспокоенность тем, что будет впереди…
В его рассказах о себе возникает неожиданная новая тема и словно бросает луч в будущее — это живопись.
Тема эта лишь возникла, но сами письма он то и дело сопровождает своими рисунками, и видно, что ему доставляет немалое удовольствие и просто разрисовать открытку, и изобразить улицу, на которой живет. Среди его нотных автографов того периода то и дело попадаются наброски чьих-то лиц, какого-то кафе, в котором несколько мужчин сидят за столами и на стене, на вешалке, видны их шляпы, трости. Выписывая фигурную скобку, так называемую акколаду, которая связывает нотные линейки для правой и для левой руки фортепианной партии, он решил, что выступ скобки можно обратить в нос человеческого профиля. Осталось подрисовать глаз, губы… Вероятно, эта мальчишеская затея ему понравилась, и из-за нот гурьбой полезли то смешные мордочки, то черти, строящие всевозможные рожицы… Любопытны здесь не столько они сами, сколько то, что их появление среди нот позволяет обнаружить своеобразие зрительного мышления Чюрлениса: из скобки — профиль; как и в описанной им картине из моря — поля, из кораблей — избы. Динамичный, преобразующий взгляд на простые вещи станет потом одним из основных качеств его живописного творчества.
Квартет, первое исполнение которого он так обругивает, в противоположность нескольким другим крупным произведениям того периода сохранился, но не полностью: нам известны лишь три его первые части из четырех. Сейчас квартет исполняют довольно часто — даже и в неполной сохранности музыка его волнует…
Перешагнув вместе с Чюрленисом в 1902 год, мы в скором времени увидели бы, как начинает меняться все, что он лелеял в своих мечтах перед отъездом в Лейпциг.
Во-первых, обещанное исполнение поэмы «В лесу» — его даже собирались вызвать в Варшаву для дирижирования! — не состоялось, причем все получилось глупо и некрасиво: автору об отмене даже не сообщили, а его друзья и родственники сидели на концерте и ждали, когда наконец объявят то, ради чего они пришли… На совести тогдашних руководителей Варшавской филармонии лежит тяжелая травма, которую пережил, узнав об этом, молодой композитор. Прошло еще десять лет, его уже не было в живых, и тогда только поэма прозвучала впервые…
Во-вторых, выяснилось, что профессор Карл Рейнеке оставляет преподавание уже с ближайшего лета. Что ж, профессору подходило к восьмидесяти, и он преподавал в консерватории вот уже сорок лет. Тут, между прочим, уместно сравнить, как занимался он со своими учениками в начале своей профессорской деятельности и в конце. Вот как это выглядело вначале, в 1860 году: «Читатель легко представит, каковы были эти уроки, если я скажу, что, хотя я сразу заявил, что не имею ни малейшего представления ни о музыкальных формах, ни о технике смычковых, мне было поручено сочинить струнный квартет. Задание показалось мне совершенно бессмысленным… То, чему меня не научил Рейнеке, я старался почерпнуть у Моцарта и Бетховена… Таким образом я кое-как довел работу до конца, партии были расписаны и квартет исполнен моими соучениками в классе ансамбля… После сомнительного „успеха“, выпавшего на долю моего струнного квартета, Рейнеке сказал: „А теперь напишите увертюру“. Это я-то, я, не имевший никакого представления ни об оркестровых инструментах, ни об оркестровке, должен был сочинить увертюру!.. Я в полном смысле слова завяз посредине увертюры — и ни с места. Как это ни неправдоподобно звучит, но в Лейпцигской консерватории не было класса, где ученик мог бы усвоить начальные сведения об оркестровке… К счастью для меня, мне пришлось услышать в Лейпциге много прекрасной музыки, в особенности оркестровой и камерной».
Так писал о Рейнеке, вспоминая свои студенческие годы, великий норвежец композитор Эдвард Григ, вспоминая об этом на склоне лет — как раз в те дни, когда Чюрленис делился впечатлениями о своем профессоре с Э. Моравским: «Хотел научиться у него оркестровке. — и ничего. Ни разу мне даже словечка не сказал. Сначала я думал, что у меня очень хорошая оркестровка, но откуда? Ведь никогда этому не учился, а Носковский также ничего не говорил. Я начал нарочно странно оркестровать… Наблюдаю за Рейнеке — ничего, поглядел и даже не удивился. А, пся крев, злость меня взяла. Я не удержался и спросил: „Герр профессор, не слишком ли это высоко?“ — „О, нет“, — ответил герр профессор, и это были единственные его слова о целых 307 тактах оркестровки!»
Похоже на Грига, не правда ли? Но и Григ, и Чюрленис — каждый шел своей дорогой, несмотря на все недостатки и академические достоинства их почтенного профессора Рейнеке…
Однако Рейнеке консерваторию покидал. Не успел Чюрленис это обдумать — неожиданно умирает профессор контрапункта Ядассон, которого Чюрленис высоко ценил. И почти сразу же — еще одна смерть: не смог справиться с болезнью князь Михал Огиньский, человек, сделавший для Чюрлениса так много… К скорби примешивается растерянность: что же дальше?