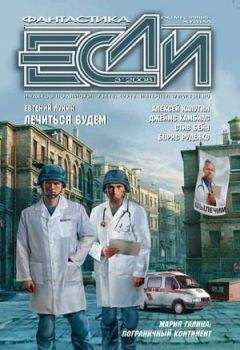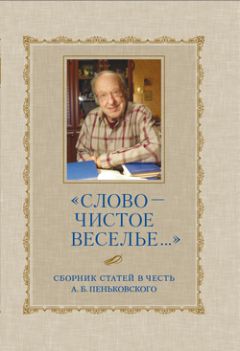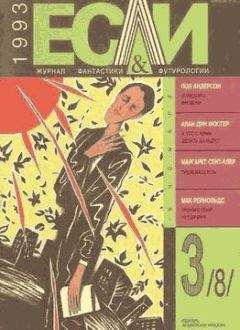Феликс Розинер - Гимн солнцу
Значение кантаты оказалось намного выше оценки «отлично», которую получил за нее композитор. Ведь именно в эти годы, в начале нового столетия, шло становление своеобразного, с яркими национальными чертами литовского искусства. В музыке, как, впрочем, и в живописи, провозвестником этого искусства стал Микалоюс-Константинас Чюрленис. Кантата[9], затем созданная вскоре симфоническая поэма «В лесу», фортепианные пьесы, которые он пишет после окончания консерватории, были теми вехами, с которых профессиональная литовская музыка начала отсчет времени своей жизни рядом с другими богатствами мировой музыкальной культуры. В его музыке зазвучала новая интонация, которая поначалу показалась непривычной и его современникам… и кажется непривычной нам, когда мы слушаем эту музыку впервые; она медлительна и печальна, она прозрачна и хрупка, сосредоточенна и сдержанна… Однако сколько же в ней простоты, благородства, задушевности! Но вслушайтесь, как звучит в Литве то, что зовется голосом самой жизни: и говор — певучие, мягкие интонации языка; и песни — грусть в них тиха, а веселье не буйно; и природа — где реки не бегут, а протекают, где горы — не выше холмов, где солнце нежарко и небо светит неяркой голубизной. Но как же так, возразите вы, — холмы, солнце и небо, при чем же здесь голоса природы? При чем здесь музыка?..
Трудно ответить на это возражение, потому что трудно объяснить, как музыке удается вместить и солнечный свет, и волнистую линию всхолмленного горизонта. Но музыка Чюрлениса все это рисует, а в живописи его звучит то, что пристало скорее музыке…
Однако мы увлеклись и давайте вернемся в 1899 год, к самому Чюрленису, который отныне профессиональный музыкант-композитор с дипломом в кармане. Диплом — это такая великая вещь! Дома, в Друскининкае, родные, волнуясь, ждут его возвращения на лето — не просто возвращения, а Возвращения с дипломом! И маленькие сестры и братья пытаются понять, что же это такое диплом: что-то вкусное, как конфета? Или красивая игрушка? Возчик Янкель, который знал мальчишку Кастукаса, а теперь привез со станции господина Чюрлениса, имеет о дипломе совсем другие представления. Он уверен, что сын Адели — она подносит Янкелю рюмку домашней водки — обязательно станет или министром, или начальником почты. Откуда было знать ему, какое значение придавал диплому сам Чюрленис? Янкель очень бы удивился и, конечно, не понял бы, почему именно его профессия извозчика пришла Чюрленису на ум, когда спустя года два тот писал своему другу Генеку: «Диплом, говоришь? Зачем он мне? Он мне не поможет ни польку, ни мазурку написать, а служба „музыкального руководителя“ не по мне. Не умею управлять таким слабым человеком, как я сам, а о руководстве другими людьми и говорить нечего. Разве только могу быть водителем трамвая (читай — извозчиком)?»
Как видим, он не переоценивал себя, а к тому же не обладал тем практическим взглядом на жизнь, который обеспечивал человеку благополучие, карьеру, успех. Все это было чуждо ему. Сразу же после окончания консерватории Чюрленису предлагают занять место директора музыкальной школы в Люблине — довольно крупном губернском городе. Он отказывается — и потому, что не может быть музыкальным руководителем, и потому, что как внешняя устроенность, так и внутренний душевный покой не свойственны ему. В это время, когда позади были всего двадцать пять лет и он бы мог мечтать еще о многих и многих удачах и радостях впереди, в его дневнике появляются строки, которые сегодня поражают, как сбывшееся предсказание:
«Ведь я представлял себе счастье таким близким и возможным. Однако решил: „Счастлив не буду“, это столь же верно, как и то, что „умру“. Сие меня как бы утешило несколько, потому что убедился так или иначе — если это можно назвать убеждением, — открыл истину.
Так и есть, счастлив не буду, иначе быть не может. Слишком легко ранимый, слишком близко все воспринимаю к сердцу, чужих людей не люблю и боюсь их, жить среди них не умею.
Деньги меня не привлекают, ожидает меня нужда, сомневаюсь в своем призвании и таланте и ничего не достигну. Итак, буду ничто, ноль, но буду знать свое место.
Перестану мечтать, но запомню мечты своей юности. Смеяться над ними не буду, потому что они не были смешными. Буду как бы на руинах своего недостроенного замка, образ которого глубоко в душе лежит и которого тем не менее никакая сила из руин не подымет. И, зная это, неужели буду счастлив? Нет, это правда. Уже с полгода тому назад приходила эта мысль, а сейчас в ней убедился. Печально, но что поделаешь».
Написанные в тяжелые для него дни, когда он «представлял себе счастье таким близким и возможным», а жизнь обманула его, слова эти оказались верны, но не во всем. Счастье? Сколько прекрасных дней, заполненных вдохновенной работой, будет у него впереди, с какой радостью он будет отдаваться творчеству, полный сил и дерзаний, — разве не ощущал он при этом, что счастлив? Перестанет мечтать? Да он всегда мечтал, и если не о путешествии в Африку, то о Народном дворце в Вильнюсе. И ведь все то, что он оставил нам, — это его мечты, которым он никогда не изменял. Он ничего не достигнет, будет ноль, ничто? Но он обрел бессмертие… А что до денег и нужды — это верно, так оно и было до последних его дней. И насчет ранимости верно, и о том, как трудно ему среди незнакомых людей, тоже все так, как было в действительности. Не сказал он только в этой дневниковой записи, что насколько нелегко чувствовал он себя с «чужими» — с теми, кто был чужд его интересам и жизненным взглядам, настолько свободно, открыто и просто держался с друзьями.
И о том, как глубоко он любил, как мужественно умел переносить страдания своего ранимого сердца, — об этом тоже не записал… Хотя нет, почему же? А эти слова о близком и возможном счастье — конечно же, он мечтал о счастье с Марией Моравской, которая стала Марией Мацеевской… О нет, она не разлюбила Кастукаса, нет, и он знает, что это так. Он тоже любит с нежностью и тоской, снедающей все его существо, — любит Марию, когда со всеми атрибутами свадебного дружка стоит поблизости от нее в костеле во время торжественного обряда бракосочетания. «Счастлив не буду». Дай же бог хотя бы ей быть счастливой. Что он мог возразить ее отцу, который, зная об их любви, сказал, что не допустит, чтобы его дочь стирала белье где-нибудь на шестом этаже?.. Да, к Чюрленису он относится неплохо, он даже испытывает нечто похожее на уважение к этому молодому человеку. Но неустроенный музыкант без денег, без положения и без будущего не может быть мужем Марии. Дочь должна подчиниться родительской воле. Вдовец, который посватался к ней, неплохой человек. Да, у него дети, что ж, счастью это не помеха: у Марии доброе сердце…
У Марии доброе сердце, и она в отчаянии. У ее возлюбленного — сердце, которое не позволяет властвовать над другими людьми, и он не хочет быть причиной раздора в семье Моравских. И еще он как будто и в самом деле знает, что его ждет, и не желает для Марии трудной жизни. Попытку что-то изменить предпринял лишь верный Генек: переживая за обоих, он, упрекая сестру в нерешительности, а друга — в чрезмерном благородстве, советует, злится на них, а еще больше — на отца. Все было напрасно. События развивались быстро и именно так, как желал того отец.
…Мария стала хорошей женой и любящей матерью большого семейства. Она дожила до глубокой старости, и в течение многих десятилетий хранила память о Чюрленисе. Преклонный возраст не смог стереть с ее лица черты былой красоты. Когда она начинала вспоминать дни своей первой любви, это лицо озарялось. Она не осуждала никого, она только рассказывала о недолгом счастье их далекой молодости. Мария Моравская-Мацеевская пережила Чюрлениса на шестьдесят лет и скончалась совсем недавно… Ее дочь написала потом Ядвиге Чюрлионите, что исполнила просьбу своей матери и портрет Чюрлениса оставила в последнем пристанище той, кого он когда-то любил…
Чюрленис посвятил Марии Моравской вальс и один из прелюдов. Этот прелюд — из лучших в числе ранних сочинений композитора. В нем — может быть, впервые — Чюрленис нашел то равновесие сдержанности и живого волнения, которое будет свойственно большинству его созданий. Как биение неспокойного сердца, непрерывно звучат аккорды сопровождения, а краткие, выразительные фразы сменяющих одна другую мелодий прелюда говорят, будто строки послания, в котором чувство не в словах, а в той задушевности, с какой можно говорить только с близким другом или с любимой девушкой.
Глава IV
НАЧАЛО ИСКАНИЙ
Ну а завтра выйдем
В дальний край…
Князь Огиньский был доволен: воспитанник его школы и его стипендиат оправдал надежды. Чюрленис навещает князя в Плунге. Полный благодарности к своему опекуну, он пишет посвященный Огиньскому торжественный полонез, и духовой оркестр, который когда-то разучивал марш юного Кастукаса, начинает разучивать музыку бывшего флейтиста, а теперь настоящего композитора…