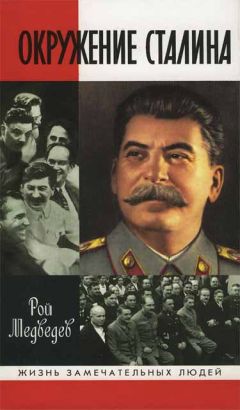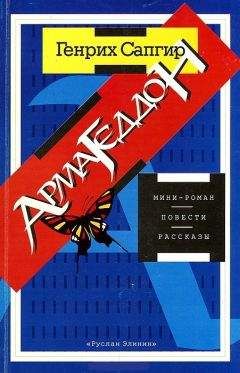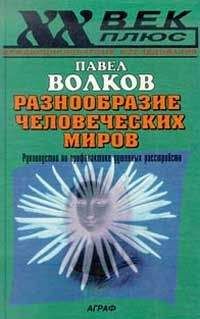Генрих Волков - Тебя, как первую любовь (Книга о Пушкине - личность, мировоззрение, окружение)
Тон и язык статей изменился неузнаваемо. Слова жгли, проникали в душу, воспламеняли. Однажды лицеисты с радостью обнаружили в новом номере "Сына отечества" статью своего любимого профессора А. П. Куницына. Ее читали вслух:
"Пусть нивы наши порастут тернием, пусть села наши опустеют, пусть грады наши падут в развалинах; сохраним единую только свободу, и все бедствия прекратятся"13.
Фразы этой статьи сами походили на ратников - непреклонных и мужественных, готовых умереть, но отстоять родину.
Московский пожар потряс все русские сердца. Об этом сам Пушкин впоследствии скажет устами своей героини в "Рославлеве": "Неужели...
пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу".
Война 1812 года стала в России войной подлинно народной, так что даже самый ничтожный и забитый из крепостных вдруг осознал себя частицей великой, непобедимой, самобытной силы, имя которой - народ русский. Об этом много свидетельств мы находим у декабристов, бывших пламенными участниками баталий 1812 года.
Иван Якушкин записывал: "Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании.
Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата:
"Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!" В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле"14.
Нам из далекого нашего XX века трудно себе представить всю новизну и необычность того чувства, которое простой солдат выразил в этой фразе: "вся Россия в поход пошла!" Впервые, может быть, русский народ со всей остротой осознал себя единой нацией и нацией великой, осознал, что слава и величие России - не в славе и величии царской фамилии, как внушали ему попы с амвонов, а в их - солдат, офицеров, партизан - мужестве и самоотверженности. Это чувство уверенности в могучих силах народных, впервые так полно тогда проявившееся, никогда уже не оставляло нашего самосознания, питая убежденность в великом будущем России.
Воплощением этого самосознания и явился Пушкин.
Без войны 1812 года, вернее, без разгрома Наполеона в войне 1812 года Пушкина как великого национального поэта не было бы, как не было бы и декабристов.
Обостренное чувство национальной гордости и национального величия проявилось тогда в злом и беспощадном обличении всего того низкого, малодушного, корыстного, кичливого, что присуще было "светской черни"
и что особенно контрастно выявлялось на фоне великого всенародного подъема.
По тем же самым дорогам, где раненые солдаты тащились пешком, падая от усталости и потери крови, на барских подводах везли вазы и зеркала, диваны и мраморные статуэтки. В соболиных шубах проносились на рысаках бегущие из своих имений баре, не обращая внимания на раненых. Обосновавшись с прежним шиком в Нижнем Новгороде, Пензе или Казани, отдаленных от театра военных действий, они громко кричали о своем патриотизме, о любви к матушке-России. "Патриотизм" этот заключался в том, что дамы на балах появлялись теперь в сарафанах и кокошниках, а мужчины щеголяли в наряде "а ля казак".
В "Рославлеве- Пушкин язвительно описал эту разительную перемену в "высшем обществе". Перед вторжением Наполеона в этом обществе модно было подражание французскому тону времен Людовика XV. Любовь к отечеству и всему отечественному высмеивалась. "Тогдашние умники"
с фанатическим подобострастием превозносили Наполеона, смеялись над нашими неудачами. Обо всем русском говорили с презрением и равнодушием, шутили по-французски, стихи писали по-французски, танцевали французские танцы, дефилировали по Кузнецкому мосту во французских нарядах.
"Вдруг, - пишет далее Пушкин, - известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни".
Так Россия явственно разделилась на ничтожную и - великую, на дрожащую от страха в петербургских дворцах и саратовских имениях и - отважно сражающуюся.
Пробил час великих испытаний, а затем и час величия России.
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей
Русские войска освободили от наполеоновских войск свою родину, освободили и народы Европы. Победа в кровопролитной войне слилась в сознании народа со свободой. Народ, освободивший свою землю и другие народы, требовал свободы и для себя.
Верилось, чаялось - теперь и в России не может продолжаться прежняя жизнь под гнетом крепостного права, теперь и в России все должно пойти по-другому. Как писалось в "Сыне отечества", теперь народ русский, "одаренный сим характером и духом, пойдет исполинскими шагами и по стезе просвещения"15.
Казалось, не могла Россия после такой встряски остаться прежней!
Не могла не сбросить унизительных оков рабства и абсолютной монархии!
Но, увы, все не только осталось по-прежнему, но сделалось и еще хуже.
Надвигалось мрачное время аракчеевщины. Все надежды были разбиты, все живое задушено твердой рукой царского временщика Аракчеева - человека крайне ограниченного, фанатичного в своем рвении, в исполнении одной идеи - превратить Россию в казарму.
- Мы проливали кровь, - роптал народ, - а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа.
Вся эта бурливая и переменчивая эпоха пришлась как раз на лицейский период жизни Пушкина; она обожгла сердца лицеистов, воспламенила "души прекрасные порывы".
И снова через Царское Село шли полки - герои, овеянные славой.
И снова лицеисты обнимали своих "старших братьев". Они - эти старшие уже были не те зеленые и восторженные юнцы, которые "шли умирать" в 1812 году. Это были победители, зрелые мужи, сознающие всю полноту своей ответственности за судьбы освобожденной ими родины.
Они принесли из Европы новые идеи, новые представления. Они говорили о свободе, о долге гражданина, о том, что стыдно России оставаться крепостнической. "В продолжение двух лет, - писал Иван Якушкин, - мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на сто лет вперед"14.
Пушкин в это время "днюет и ночует" у офицеров лейб-гусарского полка, стоявшего в Царском Селе. Внимательно слушает их речи. Впитывает в себя их мысли и чувства, проникается их настроениями, размышляет. Годы пребывания в Лицее подходят к концу.
А. И. Герцен об этом периоде русской истории писал: "Не велик промежуток между 1810 и 1820 гг., но между ними находится 1812 год.
Нравы те же, тени те же, помещики, возвратившиеся от своих деревень в сожженную столицу, те же. Но что-то изменилось. Пронеслась мысль, и то, чего она коснулась своим дыханием, стало уже не тем, чем было"16.
Свободолюбивая мысль подспудно билась, искала выхода, клокотала.
В дворянских особняках вели жаркие споры будущие декабристы. Их было немало и среди офицеров, расквартированных в Царском Селе. Декабрист Федор Глинка, друживший с Пушкиным, вспоминал о молодых офицерах семеновского полка того времени:
Влюбившись от души в науки
И бросив шпагу спать в ножнах,
Они в их дружеских семьях
Перо и книгу брали в руки,
Сгибаясь, по служебном дне,
На поле мысли, в тишине...
Тогда гремел звучней, чем пушки,
Своим стихом лицейский Пушкин...17
Декабристы были дети 1812 года. И Пушкин - сын той же грозовой поры. Молнией политического действия - у декабристов - и молнией поэтического творчества - у Пушкина - отозвалась эта гроза и ярко осветила Россию.