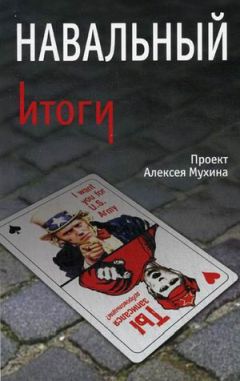Марк Розовский - Изобретение театра
Нужны обработки, переработки, осовременивание.
К примеру, извлечь из старого сундука «Комедию притчи о блудном сыне» Симиона Полоцкого, чтобы погрузить этот неблагообразный, чрезвычайно событийный фантастический сюжет в современную тухлую жизнь, оставив схему фабулы и преобразив исторических персонажей в узнаваемых нынче людей. Типы останутся прежними, но пыльные характеры преобразятся, ибо будут оснащены деталями жизни XXI века и ввергнуты в злободневные коллизии. Голодному волку и ягодка на язык.
Но иногда (в нужных – для ошеломления – местах) действо может быть лихо транспонировано в прошлое – смешать календари и акцентированно проявить эти скрученные в узлы миги разного времени, – этот прием оживит театральность, даст юмор. Эпохи могут накладываться друг на друга «утехи ради» и для игривой путаницы плутовских переплетений.
Что это по жанру?.. Может быть, и мюзикл, поскольку старинная комедия изобиловала музыкой и пением. Но в первоисточнике вставные номера были откровенно вставными и работали преимущественно в интермедиях, теперь же они окажутся в крепко сбитом соединении с общим сюжетом и драматургической простройкой.
Свет ровный, луч насыщенный – вкус есть, а праздника нет. Всякий праздник чуть-чуть пошловат. Ну, и что с того?.. Что поделаешь, если Театр по своей игровой сути заряжен на ПОКАЗ, на контакт с расписной картинкой, оживающей в пространстве и во времени. Значит, дай краски визуальному изъявлению, сделай выдуманный мир всамделишным и конкретным – для этого цвет необходим как образующая образ сила. Игра цветным светом – празднична и демократична. Пошлость отступает, если фантазм правдив.
«Когда я отдыхаю, я ржавею», – сказал кто-то. А я еще и жру и пью, как скотина.
Натуральные фактуры грубы и поэтичны своей грубостью. Перечисляю: кожа, некрашеные доски, гобелены толстой пряжи, ржавый металл, ворсистые занавесы и войлочные костюмы, праздник цветного тряпья, пупырчатые шлаковые поверхности, дырчатые, слипшиеся и затвердевшие, запекшиеся и по впечатлению мокрые, волнообразные и гладкие обожженные плоскости – все это язык театра-помойки, штампы неочернухи, как бы замусоренная окраина мегаполиса. Здесь, в этой застылости легко разместить соответствующее действие в духе шекспировско-улиссовских гадисов и ребусов, этакий бомжеватый стиль, претендующий называться высшей правдой.
Будем безжалостны: вся эта понтяра – от нынешнего бессилия театральных художников, которые, цитируя выгребную яму, думают о себе как о каких-то новаторах. Между тем все это старо, как не знаю что. При виде таких решений меня подташнивает, как на трамвайном кругу с предельно узким радиусом.
Времена клоаки на театре прошли. Ее образ удивлял, но уже не удивляет. Стало скучно смотреть иллюстрацию парши. Глаз привыкает к ее несравненной «красоте безобразия» – у этого концепта уже усталая фантазия, не способная бушевать и резко сдавшая из-за визуальных самоповторов.
Вдруг. У Немировича нахожу крик души режиссерской: «У меня вообще есть мечта об исполнителе как об актере театра синтетического, который сегодня играет трагедию, завтра оперу, оперетту и т. д.». Да ведь и у меня та же мечта!
В театре «У Никитских ворот» мечты сбываются.
«Жестокий век! Жестокие сердца!» – это не восклицание, не вопль. Это – диагноз.
Лаконизм. Минимализм. Отказ от всего. Очень хорошо.
А зритель приходит и спрашивает в конце: – А за что я вам деньги заплатил? – и прав, сволочь!..
У вашего миража нет никакого куража.
Одним из нравящихся мне приемов является втягивание зала в пространство сцены. Вообще проблема «сцена – зал» больше проблема зала, нежели сцены. Взаимоигра двух пространств делает посредниками и зрителя, и актера.
Моя, простите, постановка «Унтера Пришибеева» – пример тому. Зрители оказываются партнерами импровизирующего с ними артиста. «Внесенная жизнь» обеспечивается спусканием исполнителя в зал и вовлечением зрителя в игру, в сюжет и даже в саму импровизацию. В какой-то момент импровизируют все – зал разрывается от хохота, подыгрывая «унтеру», созидая по ходу сюжета и новые предлагаемые обстоятельства, и новые слова (а-lа Чехов!), и новую театральную реальность.
Как обеспечить круговой обзор?.. Это для зрителя.
Как выбить зрителя из состояния зрителя, переведя его в разряд соучастника?.. Это задача для артиста.
Риск преогромнейший, поскольку исходно одно пространство «противостоит» другому, а тут происходит взаимопроникновение этих миров и в итоге образуется новая, как бы третья по счету, структура.
Вспоминается формула Этьена Сурио «Куб и сфера», где.
КУБ – берется некий мир, срезается одна сторона куба – и возникает зрелище со стенками-ограничениями. Это и есть привычный вид театра.
СФЕРА – никаких пределов, никакого зала, никакой сцены. Рамка, порталы, зеркало сцены отсутствуют. Зрелище располагается в любом месте, обживая пространство, делая случайное – своим.
Этот вид театра, может быть, более завлекателен. Но он единичен в своем изъявлении, в прямом смысле неповторим.
Важнейшее: понятие РАССТОЯНИЯ и УГОЛ ЗРЕНИЯ. Все перемещения в пространстве игры зависимы от этих двух факторов.
Режиссер – один – важный, сидит за столиком и ставит пьесу. Что он видит с одной точки?.. Он – барин, точнее, хозяин-барин своей постановки, которую смотрит в лоб, из седьмого-десятого ряда, сидя посередине. Ошибка.
А другой режиссер мечется в проходах, то слева, то справа проверяя РАКУРС. Правильно.
Композиция картинки вариативна из любого места обязана воздействовать.
Проведите линии взглядов от глаз КАЖДОГО зрителя к объекту, действующему, двигающемуся в сценическом пространстве, и мы получим целый пучок лучей, уткнувшихся с РАЗНЫХ СТОРОН в одну точку. Театральная оптика сработает лишь в случаях, если по эти лучам полетят токи жизни, – туда-сюда, туда-сюда.
А ведь мне Рудницкий когда-то сказал: «Я вас с Еленой Сергеевной Булгаковой хочу познакомить».
Познакомил в ВТО. Спасибо, Константин Лазаревич. И я тотчас получил из ее рук нигде не напечатанный «Багровый остров».
Освободиться от «покровов цивилизации», попытаться войти в «природное состояние», содействовать (вот только – как?) «возврату невинности» – так манифестирует себя один очень весь из себя авангардно-фестивальный театр.
Играют голые. На лыжах. Мужчины.
Очень интересно посмотреть. Минуты полторы.
Дар Божий у этой сатаны!..
Подсознание руководит сознанием – это ясно. А вот кто начальник подсознания?
Мне не нравится, когда спектакль называют ВЫСКАЗЫВАНИЕМ. Это мода такая, идущая от не имеющих словарного запаса критикесс, это плоско, ибо фиксирует лишь авторский импульс.
Театр может быть мощнее. Мир, взметнувшийся в пространстве, пугающе огромен и рассчитан на бесчисленное количество и качество восприятий. Вариативность театра противоречит единственности высказывания или послания. Он, как музыка, отдаляется от своего «композитора» с момента рождения, и начинает собственное лучезарное приключение – небытие непререкаемо, самим актом спектакля доказывает, что оно – бытие. А вот когда твой спектакль те же красавицы-критикессы называют ПОСЛАНИЕМ – другое дело, сразу труд делается каким-то лучезарным. И мимолетность театра – преодолима.
– Большое спасибо. Ваш чудовищный спектакль придал мне хорошего настроения!
Ваши сокращения пойдут на пользу бесконечности.
Случайному пространству можно присобачить некую театрально организованную жизнь, но зрелище хэппенинга – нечто другое. Оно требует ПРЕОБРАЖЕНИЯ реальной среды, а не прямого использования.
В «Песнях нашего двора» мне хотелось заставить двор стать театральной площадкой, которая бы заиграла не сама по себе, а только при условии ее постоянного образного раскрытия. Обычная лестница воспринималась как необычная. То же самое – крыши и окна. Эти «точки» как бы подлежали эстетизации и разнообразному обыгрышу в процессе представления – зрительный ряд обогащался не за счет среды как таковой, а за счет обработки этой среды актерскими изъявлениями, шедшими в контрапункт или к метафоре пространства.
Двор становился не просто двором, где шло действие, а это был уже всем дворам двор. Среда ДОСОЧИНЯЛАСЬ в каждом музыкальном номере – и в этом был секрет успеха.
Кривляйтесь – и полечите Вторую премию. Много кривляйтесь – и вас наградят Первой. Очень много – это уже «Гран-при».
Нет ничего трусливее трусливого таланта. И нет ничего наглее, чем смелая бездарность.
– Увядаем ли мы? – вот в чем вопрос.
– Конечно. Лично я уже дурно пахну.
Поймите, нельзя играть в пристеночек у Стены Плача.
Погружение в театр. По щиколотку. По колено. По пояс. Потом – опасный момент – по горло.