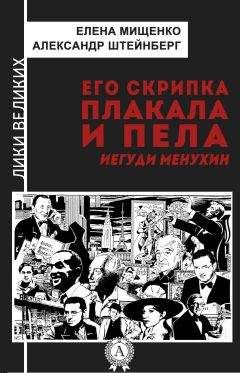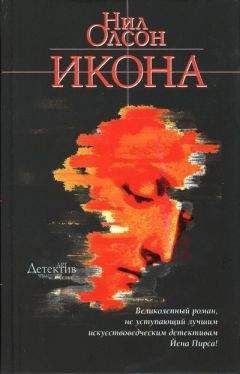Иегуди Менухин - Странствия
Вернувшись из роддома, мама восстановила прежний порядок и снова принялась возить меня на уроки музыки, которые теперь происходили в студии Персингера на Гайд-стрит. Ездили мы туда на трамвае, преодолевая относительно пологие склоны Сан-Франциско, а на совсем крутых подъемах пользовались фуникулерами. В один незабываемый день, опаздывая на урок, мы наняли такси, и мама, увидев, как мне понравилось это непривычное роскошество, сказала, что в будущем, если я буду хорошо заниматься, то смогу часто ездить на такси. Бах, и такси, и мамины надежды на мои успехи — вон сколько у меня было обязательств. Но дети — это не чистые страницы, на которых можно писать; желание во что бы то ни стало играть так, чтобы весь мир плакал и смеялся, жило во мне самом.
Скептицизм — свойство взрослых. Вспоминая детство, многие, я думаю, признаются, что детьми собирались сдвинуть горы. Я тоже верил, что смогу творить чудеса, но не потому, что считал себя каким-то особенно способным. Скорее это было убеждение, что, если очень стараться или даже если очень горячо молиться Богу, можно вырваться из-под власти естественных законов. Через несколько месяцев после того, как я стал учеником Персингера, мы переехали с Хейс-стрит, родители купили в рассрочку большой деревянный двухэтажный дом на Стейнер-стрит, номер 1043, где мы прожили следующие семь лет. Наше ступенчатое крыльцо вело к парадному входу над подвалом или, вернее, цокольным этажом, а задняя дверь открывалась в довольно большой сад, где была построена наша спальная веранда. Такое расположение дверей дома, стоящего в собственном саду, возбуждало фантазию: засыпая, я всегда воображал, что копаю от задней двери подземный ход с выходом на парадное крыльцо! Это было так интересно, так неожиданно, словно мой воображаемый подземный ход вел во Внешнюю Монголию или к началам мироздания. Я думаю, детям свойственно увлекаться подземными ходами, так как они только недавно выбрались из небытия на свет божий и старательно копают дальше, от младенчества к свободе и ответственности. Лично я упивался представлением об этом титаническом подвиге, который, я был уверен, мне под силу совершить. Точно так же я верил в свою способность совершать подвиги в музыке. Что мастерство и понимание накапливаются со временем, этим мое воображение пренебрегало; надо сегодня постараться получше учить пьесу, и тогда к завтрашнему дню я уже буду ее знать, в этом я не сомневался — уверенность, что все доступно, помогала достижению.
Наш новый дом стоил пять тысяч долларов, и платить надо было ежемесячно по пятьдесят долларов. К тому времени, когда мы вселились, папино жалованье увеличилось со 150 долларов в месяц до 200 или даже 250, но и обязанности возросли в такой же мере. Он уже был не просто школьный учитель, а директор школы, и школа у него была своя. Мне хорошо запомнились красно-кирпичные стены ее классных комнат. Я присутствовал при ее открытии и помню, как по этому случаю посадили дерево. Вскоре вслед за тем папин учительский и административный талант был вознагражден: его назначили заведовать всеми семью еврейскими школами в районе Залива, теперь его месячное жалованье стало 350 долларов. Время от времени мы всей семьей посещали какую-нибудь из школ под его началом. Я уверен, доведи мой отец до конца обучение в университете, он бы далеко пошел в области народного образования; и если бы его идеал еврея не противоречил понятиям еврейского национализма, он бы мог занять в Израиле едва ли не любой пост. Обе эти возможности были к 1922 году им отвергнуты, а пятью годами позже он ради меня отказался еще и от той карьеры, в которой тогда вполне преуспевал.
А пока на свой скромный заработок он умудрялся радовать семью увлекательными поездками, концертами, автомобилем и нашим чудесным домом. Цокольный этаж он переоборудовал под гараж для шести или семи машин соседей, которым приходилось ломать головы над тем, как бы припарковать машины на своем тесном дворе. Плата за гараж примерно покрывала взносы за дом, а доход со сдачи двух верхних комнат оплатил нам постройку спальной веранды. Одну комнату, что попросторнее, окнами на улицу, снимали две старые русские барыни, сестры или подруги, я так и не выяснил. Раз в году, на какой-то русский праздник, мы были званы к ним ужинать, и нас торжественно угощали русской выпечкой — замысловато переплетенными косицами, вкусно обсахаренными и хрустящими. Меньшую комнату, окнами в сад, занимали сменяющиеся жильцы, последний из них, Эзра Шапиро, прожил у нас несколько лет. Он был молод, жил отдельно от родных, прилежно учился на юридическом факультете, и в его трудностях наша мама ему очень сочувствовала. Ей было жалко его, одиноко сидящего наверху, и его приглашали вниз проводить время в тепле и семейном уюте. Эзра был у нас жильцом, пока не окончил университет, но и после этого на всю жизнь сохранял связь с нашей семьей как свой, близкий человек, а когда он умер, общение с нами поддерживали его жена и две дочери.
Жизнь нашей семьи протекала на нижнем этаже, там были кухня, гостиная и столовая (ночевать мы уходили в сад). Рядом с кухней была еще одна комната, служившая, когда кто-то болел, изолятором, а в остальное время я там занимался, глядя через окно в сад и на крыльцо и слыша, как рядом мама стряпает на кухне.
Дом на Стейнер-стрит открывал возможности для приложения еще одного маминого таланта — таланта принимать гостей. Несколько раз в году родители устраивали званый ужин. Человек двадцать, а то и больше, рассаживались в столовой за большим обеденным столом, раздвинутым до полного предела и покрытым во всю ширь великолепной белой скатертью. По такому случаю разводили огонь в камине, и самой лучшей частью вечера, на мой вкус, были полчаса, которые я проводил в одиночестве, любуясь пламенем, пока не приедут гости. Сестрички уже были в постели, родители поглощены последними приготовлениями, и я в одиночку владел этой живой, таинственной, грозной красотой. Потом постепенно вечер становился все неприятнее. Мне разрешалось ужинать за столом со взрослыми, но ноги у меня еще не доставали до полу и беспомощно болтались, отчего я испытывал все возрастающее неудобство. Я тогда никому не жаловался, но с тех пор, в память о наших званых вечерах, я всегда забочусь, чтобы у детей, секретарей и всех прочих, кому так удобнее, были скамеечки для ног.
На одном таком вечере я опозорился. Это произошло, я думаю, в первый год нашей жизни на Стейнер-стрит, потому что среди гостей была медицинская сестра из больницы “Маунт Синай”, которая ухаживала за мамой при рождении Ялты. Наверно, самой характерной маминой еврейской чертой было желание женить своих молодых знакомых. А так как эту медицинскую сестру она высоко ценила, ей захотелось устроить брак между нею и тогдашним нашим жильцом, мужчиной лет тридцати, на мой взгляд, очень важным и серьезным. О маминых планах насчет него я знал, и меня беспокоило, что он станет жертвой заговора: пришел человек в гости поужинать по-дружески, а против него тут замышляют интриги. Надо его предостеречь. И предостеречь, конечно, должен я. А что мне боязно, так тем значительнее будет мой подвиг. Пока ели суп, я несколько раз порывался к нему обратиться, но снова умолкал, не хватало духу. Наконец выпалил:
— Знаете, зачем вас сегодня пригласили?
— О, — сказал он в ответ, — такой чудесный вечер! Мне очень приятно провести его с твоими родителями и их друзьями.
— Вас пригласили, чтобы женить на вот этой даме!
Можете себе представить, что вечер так и не оправился от такого удара. Но к чести родителей, меня за эту неуместную искренность не наказали и не отчитали. А про ложь во благо я впервые услышал только много позже. Ялта, достигнув возраста, когда можно не ложиться спать в ожидании приезда гостей, тоже совершила как-то почти такой же серьезный проступок: вывернула солонку в кастрюлю с готовящимся блюдом. И тоже избежала наказания. Право же, при всем уважении и послушании, которые от нас требовались, родители были чрезвычайно снисходительны к нашим злодеяниям, да и в прочих отношениях не проявляли строгости. Папа иногда говорил нам: “Ваша мама очень устала, у нее было столько дел”. Других призывов к сочувствию мы от них никогда не слышали — ни с жалобами на недомогание, ни с просьбами вести себя потише к нам не обращались. Они помогали нам, носили наши вещи, работали на нас. Только сам став отцом, я познакомился с иной организацией семейной жизни, когда “сделать что-то для папы” — нормально для ребенка.
От Персингера я узнал не больше секретов игры на скрипке, чем от Зигмунда Энкера. Персингер только показывал, а я подражал, добиваясь цели на слух и не отвлекаясь на обращение к рассудку. Как музыкант он учил меня проникновению в музыку, а как учитель показывал пример сосредоточенного внимания к ученику, на какое, как я убедился лишь недавно, не все учителя способны. Он исключительно много со мной работал. Наши два урока в неделю незаметно превратились в три, а потом стали четырьмя и пятью. (Позже, когда он аккомпанировал мне в поездке, мы работали вместе с утра по три часа ежедневно.) Чтобы сделать занятия увлекательнее, он придумывал для меня упражнения, один раз записал гаммы в терциях в виде игрушечных поездов, движущихся по холмам и долинам. Я бы не удивился, если бы теперь узнал, что тут его вдохновил автограф Баха, но тогда его рисунки подтверждали мое глупое убеждение, что всякие экзерсисы — это для маленьких, а меня только отвлекают. В Персингере я получил учителя, не приемлющего автократического метода преподавания, когда выше всего ценятся трудные упражнения и этюды просто ради них самих. Его главным достоинством был здравый смысл. Полстолетия тому назад его убеждение, что ухо должно управлять пальцами и что кисть должна привыкнуть к полупозициям, вовсе не были общеприняты. Трудно сказать, многому ли бы я выучился, если бы схватывал все не так быстро. И сколько бы хитрых упражнений он придумал, если бы не сердился на то, что я сразу повторяю то, что он показывал! Несомненно, он и тогда был убежден (и справедливо!), что гаммы в терциях полезны, но, будучи прагматиком, давал мне волю делать с ними что хочу, не считаясь с его наставлениями. Чувствовал ли он, что моя сила — в непокорстве и что, добиваясь усвоения школьных истин, он рискует исковеркать талант, просто чтобы доказать свою правоту? Сожалеть о его терпимости так же неправильно, как и уповать на добродетель, не делающую уступок черту. Всегда есть черт, которому надо платить. Но иногда черт возвращает долг. Не обучая меня принятому методу, Персингер побуждал меня создать со временем свой метод, так что выходит, даже промахи и неувязки приносили пользу. Где другой учитель не допускал бы меня до великих произведений, пока я не достигну той высоты и того веса, которые считались соответствующими глубине, Персингер предоставлял судить своим ушам.