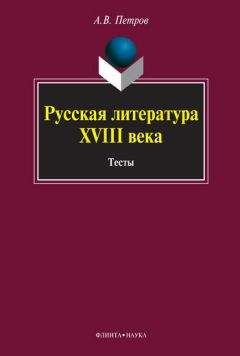Н Лейдерман - Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
"Человеку так много насулили со дня творения, каких только чудес ни наобещали униженным и оскорбленным: вот царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот братство, а вот счастье в коллективе, хочешь - живи в коммунах, а за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай. А что на деле? Одни словеса! А я, если хочешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. . . Я громоотвод, я увожу людей черным ходом к несбыточному Богу", - говорит Гришан.
Его логика соблазнительна. Ибо путь к счастью, который указывает Гришан, доступнее и короче всех иных путей, доселе предлагавшихся человечеству. И - самый разрушительный для личности, обрекающий ее на неминуемую и быструю деградацию.
Что же предлагает взамен Авдий? Благородную, старую идею нравственного самосовершенствования.
В романе эта идея влагается в уста самого Иисуса: "Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, - выше этого нет цели в жизни". Но, как уже не раз бывало со многими благородными проповедниками, провозглашавшими эту выстраданную абсолютную идею, Авдий терпит поражение. Не физическое, а идейное поражение. Его растаптывают, над ним глумятся те, кого он хотел наставить на путь истины, кого он хотел вывести из мрака бездуховности. Всем этим "гонцам" за анашой, всем этим отстрельщикам из "хунты" Обер-Кандалова куцее, обманное, низводящее до утраты человеческого облика счастье наркотической затяжки или глотка водки дороже всех духовных радостей, к которым их зовет "спаситель Каллистратов", как его язвительно величает Гришан. Да и сам Авдий подсознательно понимал, "что поражение добытчиков анаши - это и его поражение, поражение несущей добро альтруистической идеи". Никакие рыдания арестованного Леньки-"гонца", никакие аллюзии на распятие Христа при расправе пьяных отстрельщиков с Авдием не смягчают горечи поражения этого героя, самоотверженно преданного идее добра и человеколюбия.
Оценки, которые давал Ч. Айтматов своему Авдию в публичных выступлениях, в частности на встрече с читателями в Останкино (март 1987 года), выглядят завышенными по сравнению с тем, как этот герой объективно представлен в романе. По художественной логике, воплощенной в романном эпическом событии, Авдий терпит поражение потому, что тоже соблазнился вроде бы наиболее прямым, наикратчайшим путем преодоления бездуховности стал взывать к душам падших, уповая на непосредственную перемену их убеждений, игнорируя условия среды, социальные обстоятельства, под влиянием которых они сформировали свои потребности, свою систему ценностей.
В полном соответствии с внутренней логикой развития конфликта в роман входит Бостон Уркунчиев.
Он входит после того, как потерпел поражение проповедник Авдий Каллистратов. Чабан Уркунчиев выступает как человек активного социального действия, как сила, стремящаяся изменить сами обстоятельства, с тем чтобы они стали благоприятными для свободного, ничем не скованного духовного совершенствования личности.
Разумеется, Бостон Уркунчиев так не формулирует свои мысли. Он, в отличие от Авдия, не искушен в словесных баталиях, но, в сущности, за сугубо "производственной" идеей семейного или бригадного подряда, которую отстаивает чабан Уркунчиев, стоит в высшей степени духовная идея - идея хозяина, который добивается права на творчество, на гражданскую ответственность, на доверие к себе, на уважение своего человеческого достоинства.
Претензии Бостона Уркунчиева небеспочвенны. Он, воспитанный послевоенной нуждой, "прирожденный хозяин", умеющий и любящий работать ("на работе зверь зверем"), сын земли своей, знающий каждую ее пядь, хорошо изучивший нрав и повадки всякой живности, человек, мудро соотносящий свою судьбу с бесконечной цепью поколений, продолжает линию тех любимых айтматовских героев, на которых мир держится.
Но что же мешает ему, земному (в отличие от умозрительного семинариста Авдия) "человеку трудолюбивой души", утвердить свои идеалы в жизни? С какими ликами бездуховности приходится ему сталкиваться в смертельном поединке?
На эти вопросы в романе даны совершенно определенные ответы. По Айтматову, главное зло, которое мешает свободной, хозяйской, творческой, одухотворенной жизни бостонов, это социалистическая демагогия, а точнее, те, кто ее насаждает, и те, кто ею прикрывается.
Трудно найти во всем творчестве Айтматова образ большей сатирической силы, чем созданный им в "Плахе" образ Кочкор-баева, совхозного парторга. Этот "газета-киши", то есть "человек-газета", "пустослов", "типичный грамотей с дипломом областной партшколы", способен лишь, подобно щедринскому органчику, изрекать готовые заученные формулы. Вот как, например, Кочкорбаев дает "отповедь с теоретических позиций" Бостону Уркунчиеву, предложившему внедрить бригадный подряд:
". . . До каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями?", "атака на историю, на наши революционные завоевания, попытка поставить экономику над политикой. . . ", "поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то ни было", "очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления, как бы хорошо они ни маскировались. Мы не позволим подрывать основы социализма. . . "
Казалось бы, чего стоит камня на камне не оставить от этой "раз и навсегда заученной логики демагога"?
Однако демагогию кочкорбаевых не так-то просто сокрушить. Именно потому, что она "заученная", и не одними лишь Кочкорбаевыми. За словесными блоками начетчика тянется длинный и неодноцветный исторический шлейф. У одних людей эти фразы вызывали воспоминания о романтике первых пятилеток, у других рождали довольно тягостные ассоциации, а третьих вообще вгоняли в столбняк. Зато Кочкорбаевы поощряют и прикрывают одобрительными политическими формулировками циников, которые используют изжившие себя, опровергнутые опытом установления и инструкции для собственной корысти. По начетнической шкале Кочкорбаева труженик Бостон Уркунчиев - это враг, "кулак и контрреволюционер нового типа", а бездельник и пьяница Базарбай Нойгутов - это "человек принципиальный". Как же! Он ведь изъял выводок волчат, изолировав хищников, которые наносят вред "общенародной собственности". А что Базарбай сотворил это лишь ради наживы, что его "подвиг" обернется еще большим вредом "общенародной собственности" от разлютовавшихся волков, лишившихся своих детенышей, - все это не дано понять Кочкорбаеву с его "заученной логикой".
А кто же расплачивается за экологические подлости базарбаев и политические глупости кочкорбаевых? А расплачиваются бостоны, и расплачиваются страшной ценой. Такова логика отношений между честным тружеником, с одной стороны, политическим демагогом и бездельником - с другой, какой ее раскрывает Ч. Айтматов. Ведь выстрел Бостона, поразивший насмерть маленького Кенджеша, которого уносила волчица Акбара, стал выстрелом в самого себя, стал самоубийством. Потому что Бостон этим выстрелом перебил нить своей судьбы в бесконечной пряже поколений. Читатели Айтматова помнят, каким огромным философским смыслом наполняется в его книгах мотив Отца и Сына: в "Белом пароходе" Мальчик кончал жизнь самоубийством, тоскуя об Отце, в "Ранних журавлях" Султанмурат выверял свои поступки по отцу, воюющему на фронте, в "Пегом псе, бегущем краем моря" отец и дед принимали добровольную смерть, чтобы сохранить капли воды для сына и внука, в "И дольше века длится день. . . " этот мотив был связан с образами учителя Абуталипа и его сыночка Ермека. Отец, переливаясь в сына, продолжал себя в нем, сын, опираясь на отца, утверждался в жизни. . . Выстрел Бостона положил конец всему.
Бостон Уркунчиев, в отличие от Авдия Каллистратова, не только жертва, он и судия. И судия справедливый. Но его выстрел в Базарбая оглушает, потрясает, ошеломляет.
Неужели, кроме кровавого самосуда, Бостон не мог найти никакого иного способа установления справедливости? А гадать нам не приходится: событие свершилось, и свершилось именно потому, что Бостон не смог найти иного пути. Его самосуд означает горькое разочарование и утрату доверия к системе принятых моральных норм.
Убив человека, даже если этот человек негодяй и пьяница Базарбай Найгутов, сам Бостон Уркунчиев преступает ту нравственную черту, которая отделяет его "от остальных", от рода людского.
"Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света. . . " Таков финал романа "Плаха". Горький, трагический финал, который не только не завершает эпический конфликт, а, наоборот, распахивает его в историческую перспективу. Если "человек трудолюбивой души" уже не вписывается в координатную сетку давно сложившихся критериев и норм, если он терпит страшный моральный урон от косных догм и установлении, а при попытке активного социального действия в соответствии со своими идеалами и возможностями "выламывается" из существующей системы общественных отношений, вступает с нею в трагическое противоречие, значит, социальная катастрофа неизбежна.