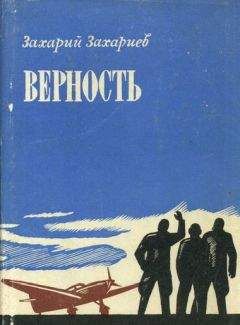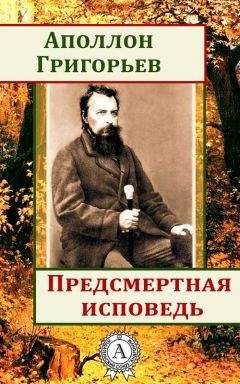Аполлон Григорьев - Великий трагик
– Он, он!.. – шепнул мой приятель с лихорадочным выражением.
– Кто он?…
– Мочалов!
Да это точно был он, наш незаменимый, он в самые блестящие минуты… Мне сдавалось, что сам пол дрожал нервически под шагами Сальвини, как некогда под шагами Мочалова.
Мы ждали его снова, слушая, впрочем, Яго и Эмилию… ибо таково свойство артистической игры, что она вводит человека во всю драму, как в нечто живое.
Когда он явился с словами: «Ahi! donna infida…»,[89] это был уже другой человек. Процесс совершился в душе… яд вошел в нее… и что было в этой сцене с Яго, – как от стонов разбитого сердца и мрачной сосредоточенности перешел он к тому воплю и прыжку разъяренного тигра, с которыми душит он Яго, как все усиливались и усиливались эти ярые вопли, этот звериный рев, – этого словом передать нельзя. Все в театре приковалось взорами к актеру… все следило за ним жадно, не переводя дыхания… Он мучил нас по всей своей воле, не давая отдыху, – до той минуты, когда они с Яго упали на колена, произнося клятву. И как он упали на колени! Как естественно и вместе как итальянски-художественно!.. Всюду была красота страсти и страдания – то идеальное преображение, которое, бывало, из малорослого Мочалова делало какой-то гигантский призрак.
После этой сцены можно было актеру упасть и он все-таки остался бы высоким актером, – но гениальные натуры создают роль цельно… И в сцене с Дездемоной, в ласкании ее руки, волшебник нашел в свое натуре средства терзать сердца зрителей. Что это было такое? наполовину человек, глубоко разбитый, наполовину тигр, притаивающий тщетно свою ярость и разражающийся наконец всем неистовством в вопросах о платке… А главное – главное, что впечатление не перерывалось, что одна и та же струя пробегала по игре в течение целого акта, держала вас под таким влиянием, что порою решительно захватывалось дыхание. Что это все, одним словом, не делалось, не сочинялось, а рождено был одним бурным вдохновением…
Мы вышли какие-то отуманенные… Иван Иванович не пошел даже в буфет – и мы ходили с ним по коридору, ни на кого не смотря, никого не замечая и даже не передавая друг другу своих впечатлений… Что тут комментировать… Дело было совершенно ясное и простое. Волканическая натура, в соединении с высокой артистичностью, может делать чудеса – и такое чудо пронеслось перед нами, обвеяло нас каким-то знойным и бурным дыханием. В голове бывает, коли вы хотите, какой-то чад в подобные минуты, но то, что видится сквозь этот чад, право, дороже многого, видимого в обыкновенном расположении нашем… Странно, но ходя я думал уже не о Сальвини, я думал о Шекспире… и, между прочим, вот какой вопрос пришел мне в голову: отчего я сто раз пойду смотреть эту беспощаднейшую и мучительнейшую его драму, сто раз готов выстрадать всю эту адскую последовательность мук Отелло, последовательность, в которой ни одного шага, даже полушага не опущено, – и отчего я положительно не могу выносить французских драм с и выставлением наружу всевозможных язв. Т. е. не то чтобы только в художественном отношении они были мне противны: нет, они меня мучат невыносимо – мне просто нехорошо, неловко, болезненно, как в разных водевилях, например, мне также просто непосредственно делается стыдно.
Когда я сообщил мой вопрос Ивану Ивановичу, он отвечал, что сам то же испытывал и испытывает, но что причины предоставляет разыскивать мне самому, а теперь бы оставил я его в покое. Глаза у моего приятеля становились из обычно-усталых какими-то дикими, руки у него горели.
А я продолжал все-таки анализировать – такая уж проклятая привычка образовалась. Я попал на свою заветнейшую думу об идеализме и натурализме в искусстве.[90] Конечно уж французские драмы, не принадлежащие даже к области натурализма, а составляющие простой рыночный продукт, сменились другими, более серьезными вещами – в голове сопоставлялись «Записки сумасшедшего» Гоголя и в контраст им «Дневник г. Голядкина»[91] – «голова Медузы» Леонардо да Винчи и «голова Медузы» же Караваджио… Во всяком случае, я уже успел себя успокоить, но на моего Ивана Ивановича было почти так же страшно смотреть, как на Сальвини: губы его подергивались уже совсем судорожно, и он начал даже запускать правую руку в волосы…
Вообще это все отзывалось мочаловским представлением, – первыми порами «Гамлета» – увлечениями, которые я считал уже совершенно невозвратными, – увлечениями, может быть дорогими болев настоящих, потому что они волновали нас под суровым, зимним небом, в трескучие морозы… Все человеческое уже исчезло в Отелло в IV акте: походка тигра или барса, судорожные движения; глаза, налившиеся кровью, сухие и разбитые тоны в голосе – вот что заменило прежнее благородство, прежнее величие, прежнюю страстную нежность… Но и тут соблюдена была удивительная психологическая последовательность. Не с самого начала акта явился таким великий артист…» Когда он вошел – видно было только, что прежний человек в нем разрушился; на физиономии его, судорожно подергивавшейся, обозначались следы таких мук, которые поистине могут назваться нездешними и после которых душа, кажется, должна уничтожиться… Но когда Яго довел разговор до своего адского и цинического рассказа, тогда можно было убедиться, что есть муки еще злее, еще ядовитее виденных. Сальвини не повалился тут на пол в судорогах, как делают это другие трагики, как делал – и иногда удивительно делал Мочалов, – он только схватился руками за стол и припал к нему грудью с диким ужасным воплем, в котором слышались и физическая боль ломающегося сердца, и рев кровожадного тигра, и вой голодного шакала, и вместе с этим стон человека. Затем – человек обратился в зверя – и опять с массою зрителей сделалось то же, что было в третьем акте, т. е. до самого конца четвертого акта волшебник держал нас под своим влиянием, не давал ни на минуту анализировать себя, потому что сам не отдыхал ни на минуту. Только и можно было остановиться, вздохнуть после минуты, когда он бьет Дездемону…
Мы опять не рассуждали и не хотели рассуждать во время антракта. Я. заметил только, что напрасно выпущено лицо любовницы Кассио, Бьянки, на что Иван Иванович отвечал, что это сделано, вероятно, во имя местной нравственности…
Пятый акт был начат сценою песни об иве. Такова уж поэзия этой глубоко меланхолической сцены, что в ней преобразилась и наша Дездемона… У нее как-то смягчились резкие горловые акценты и подернулись северным туманом грусти яркие черты лица… Дездемона отпустила Эмилию и легла. Сказать, что мы ждали появления Отелло, было бы в высшей степени неверно. Шекспировская трагедия и Сальвини захватывали под свою власть душу как настоящая правда жизни… Ждать того или другого лица можно только тогда, когда представлению не подчиняешься, а мы, да и вся масса, подчинились тут ходу драмы.
Я и забыл сказать, что пестрая толпа, наполнявшая партер, преследовала уходящего в четвертом акте Яго энергическими, хотя шепотом произносимыми восклицаниями: Scelerato!! Bestia!![92]
Теперь только, когда я описываю впечатления, приходит мне в голову вопрос: прерывалось ли у трагика во время антракта его нервное настройство и, припоминая покойного Мочалова, который во время антрактов мрачно и молча сидел или ходил один, вдали от всех, с судорожными движениями, – думаю, что – нет…
Перервавши, хотя и на минуту, душевный процесс – пусть это процесс и воображаемый и представляемый, – нельзя было войти таким, каким вошел Сальвини. В театре опять настала мертвая тишина…
Видно было ясно, что яд уже окончательно совершил свою работу над душою Отелло… Искаженный, измученный, разбитый и вместе неумолимый, подошел он к постели тихой походкою тигра и остановился. Опять страсть обманутая, но безумная страсть прорвалась какими-то жалобными, дребезжащими тонами. Все тут было – и язвительные воспоминания многих блаженных ночей, и сладострастие африканца, и жажда мщения, жажда крови… Одну из этих сторон душевного настройства выразить нетрудно, но выразить их все, выразить то, что Шекспир сам хотел сказать последним поцелуем, который дает Отелло своей Дездемоне, – для этого надобно быть гением.
Странная, непостижимая вещь природа гениального артиста – странное, непостижимое слияние постоянного огненного вдохновения с расчетливым уменьем не пропустить ни одного полутона, полуштриха… Как это дается и давалось натурам, подобным Сальвини и Мочалову, – проникнуть мудрено. Думаю только, что это дается только постоянством вдохновения, целостным, полным душевным слиянием с жизнию представляемого лица, – вырабатывается долгою думою, но не придумывается, ибо дума поэта или артиста есть нечто вроде физиологического процесса, – и наконец захватывает всего человека!.. Слово: «расчетливое уменье» употребляю я только за недостатком другого. В такой игре расчета – в смысле составления физиономии перед зеркалом, придумывания и заучения интонаций – быть не может, но и вдохновением назвать этого нельзя, в том смысле вдохновением, на основании которого ревут, беснуются и ярятся, как буйволы, обыкновенные трагики…