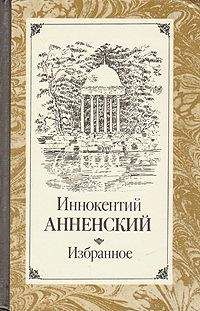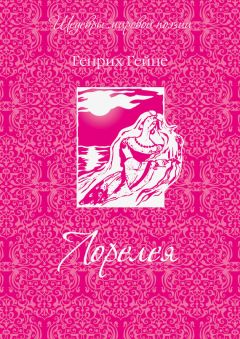Владимир Ильин - Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение»
Нам ясна теперь не только амартология Гоголя, но и его эсхатология – учение о последних вещах и о загробной судьбе мелкой серой самодовольной богоненавистной и человеконенавистной пыли, о которой сказано:
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.
Громадная заслуга Гоголя в том, что он показал не только, как выглядят те, которым «не дано дышать божественным огнем», но и почему они не хотят дышать и каково происхождение их, не желающих дышать божественным огнем и преследующих тех, кто им дышит.
Чичиков ходит в церковь, но как и для чего? А «как все»…
«Наконец, он пронюхал его (начальника. – В. И.) домашнюю семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, и дело возымело успех»…
«…Устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался как с невестою, повытчика звал папенька и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени сам он стал повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, оказалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком; потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки, а о свадьбе дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз жал ему руку и приглашал к себе на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «надул, надул чертов сын!».
Здесь это слово совсем звучит и не тщетно, и вовсе не бранно. Здесь Гоголь просто констатирует факт. Чичиков действительно и в буквальном смысле этого слова – чертов сын. А за рогами, за когтями, за копытом и за превращением милой мордашки, которой так любуется ее же обладатель, в настоящую бесовскую харю дело не станет. У вечности времени много.
Если «свет желает быть обманутым» (mundiis vult decipi), то зато «Бог поругаем не бывает». И страшно подумать, что будет с теми, о которых сказано:
«Ваш отец дьявол» (Иоанн 8, 44). И главное дело дьявола – именно надувать, лгать, хитрить, изворачиваться, подличать, пролезать всюду змеей и лисой, клеветать, и прежде всего клеветать на Бога, возводя на Творца и Спасителя, обнищавшего ради творения и спасения Своей возлюбленной твари, будто Он деспот и завистник, каратель и палач, любующийся мучениями осужденных; и на ангелов, будто это корпус крылатых жандармов.
Помещаемый здесь очерк был готов уже давно. Ныне, прочитав превосходную французскую книгу проф. П.Н. Евдокимова о Гоголе и Достоевском, я был очень счастлив встретиться с ним духовно на общей почве, хотя эта почва «вулканическая», дрожащая, колеблющаяся и вся пропахшая серой.
Александр Иванович Герцен – загадка русской мысли и русского слова
Посвящаю дочери моей Елене
Уже тот факт, что Герцен никак не мог ужиться с русскими бунтующими нигилистами, разночинцами вроде Чернышевского и Добролюбова, и в то же самое время вызывал горячую симпатию так называемых «реакционеров» типа Константина Леонтьева и Достоевского, не говоря уже о Льве Толстом, показывает, что «герценовский вопрос» подлежит радикальному пересмотру.
Конечно, русскому левому лагерю, не блещущему ни умом, ни творчеством, очень бы хотелось «заполучить» в качестве «своего» автора «Былого и дум». Эта «экспроприация» уже давно учинена над Герценом со стороны тех, которые всегда были специалистами по части экспроприации, убийств и, вообще, всякого рода чекизма с «мокрыми» и «сухими» делами, чем они и вызывали к себе непреодолимое отвращение Герцена. Ему, барину до кончика ногтей, все эти бесчестные дела были противны так же, как и мещанство всех видов и сортов. А революция, как правило, всегда влечет за собой удвоенный прилив самого низкого мещанства, корысти и всякого рода бесчестия.
Корысть, зависть, мщение, кровожадность, словом, все то, что связано с низостями бунтующего раба, – все это, конечно, никак не могло быть по душе Герцену, типичному человеку русской элиты, дворянину, весьма озабоченному своей родословной, близко его соединявшей с Русским Царствующим Домом, к которому внутренне он всегда чувствовал влечение, несмотря на внешние ссоры и фронду.
Охамевший до конца Ульянов-Ленин понял, что «им» Герцена пристегнуть никак невозможно. И если это делается по сей день, так это по старой, автоматически действующей привычке…
Однако сам же Герцен пророчествовал о появлении героического меньшинства тех, из груди которых вырвется титанический протест против засидевшихся и засидевших свои места нынешних коммунистов и социалистов с их осточертевшими шпаргалками и десятком-другим заученных фраз из какого-нибудь «вождя»… Ибо Герцен отлично отдавал себе отчет в том, что такое Карл Маркс и что такое «диктатура пролетариата»… В чем угодно можно обвинить Герцена, но только не в диком погроме культуры. Нечаевщину и ткачевщину, то есть тогдашний большевизм и чекизм, ненавидел он сердечно и зажимал себе нос, закрывал глаза при одном приближении какого-нибудь золоторотца из «Современника», «Свистка» или «Русского Слова»…
Все это мы считаем необходимым здесь напомнить по той причине, что эти строки могут попасть к читателю за железным занавесом, – не говоря уже о том, что и в эмиграции есть сколько угодно любителей с нафаршированными красным фаршем черепными коробками…
Герцен очень важен как представитель редчайшего, можно сказать, единичного сочетания «левых» идей с вершинами культуры, как идеологической, так и литературно-эстетической. Это была натура сложная, прихотливая, насквозь элитная и очень загадочная.
Александр Иванович Яковлев-Герцен (1812–1870) во всех смыслах «удался», как только могут удасться «незаконнорожденные» дети – согласно общеизвестному русскому поверью… Он действительно «родился в сорочке»…
Герцен был с материнской стороны наполовину немец. Отцом его был богатый и очень родовитый русский барин-землевладелец Иван Алексеевич Яковлев. Бабушкой его была княжна Мещерская. Мать писателя Генриэтта-Луиза-Вильгельмина Гааг была похищена и увезена отцом Герцена из Штутгарта. Свою фамилию-прозвище Герцен получил именно по той причине, что был плодом страстной сердечной любви. Любопытно, что на своей собственной жене писатель женился совершенно таким же образом, как и его отец, – в порядке увоза – «умыкания»… Видно, буйное кипение ума и чувства было в природе у обоих…
И у обоих это было связано с ненасытным свободолюбием, с ненавистью к какому бы то ни было рабству, закрепощению, молчалинству, фамусовщине какого бы то ни было политического цвета и пошиба. В обоих бродил дух Чацкого-Грибоедова, раз навсегда провозгласившего:
По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово раб.
Естественно, что и «рабами Божьими» оба Яковлевы – отец и сын – не хотели быть. Их по этой причине сочли «вольтерианцами», что не совсем верно или, сказать правду, – совсем неверно. В Вольтере было много цинизма и духовной тупости – достаточно вчитаться в его полемику с Паскалем, которому Вольтер и в подметки не годился, даже в смысле свободолюбия: это достаточно ясно становится, если сравнить две полемики – Вольтера по знаменитому делу Каласа и Паскаля – против иезуитской псевдоморали о цели, оправдывающей средства.
Да и с приходом, вернее с явлением на земле Христа, всякое рабство было уничтожено, в том числе и рабство у Бога – достаточно вспомнить текст: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями» (Ио. 15, 15).
А если господам «богословам» и товарищам «инквизиторам» (часто это одно и то же) было угодно восстановить это рабство в потоках крови и в смраде костров, то христианство здесь ни при чем.
Во всяком случае, Герцен ненавидел все то, что на языке нашего времени именуется тоталитаризмом, – и даже предвидел героическое меньшинство, которому тоталитаризмы – какие угодно и под какой угодно видимостью – станут невтерпеж и которое захочет настоящей свободы. Рыцарем свободы, несомненно, был сам Герцен. Поэтому фальсификаторам литературно-идеологического наследия фрондирующего барина надо очень опасаться того, чтобы не быть схваченными с поличным… на элементарной лжи, на замалчивании и извращении фактов.
Вообразить себе блеск речей, мыслей, парадоксов и словечек Герцена исходящими не из культурного барского особняка, но из затхлого подполья Чернышевских и Добролюбовых – просто невозможно. Это подполье, как и современную марксополитгра-моту, можно охарактеризовать двумя словами Достоевского: