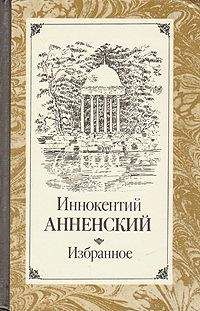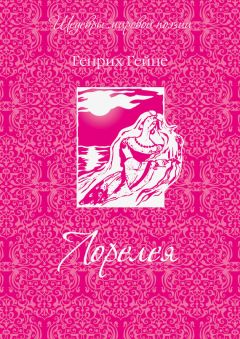Владимир Ильин - Пожар миров. Избранные статьи из журнала «Возрождение»
«Мертвые души» как целое «не удались». Но зато в них есть несколько вполне удачных, закругленных, законченных, вполне аполлинистических эпизодов. Сюда надо отнести и все что связано с брожением умов по поводу Чичикова, «Повесть о капитане Копейкине», жизнеописание Чичикова, повесть о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче, коммуну полковника Кошкарева и ряд ярчайших мелочей в этом роде и духе – большей частью сюрреалистического стиля и символического значения и смысла.
Совершенство структуры в художественных произведениях и особенно в искусстве слова определяется мотивами внутренними и мотивами внешними. Под «мотивами внутренними» мы разумеем здесь духовную вескость стимулов творчества и их глубину, их морально-эстетическую и познавательную эффективность. Под «мотивами внешними» – то, что Флобер именовал «демоном совершенства» – со включением требований хорошего вкуса и стиля до специальных чисто языковых качеств выражения.
Идея Бога, особенно в связи с идеей богоподобия и принципиального всемогущества человека, идея веры, переставляющей горы, идея бессмертия души, вечной жизни и вечного совершенствования человеческой личности – все это настолько дерзновенные, даже дерзкие, беспредельно смелые, так много дающие пищи уму, сердцу и эстетическому чувству идеи, что сравнительно с ними противоположные им идеи безбожия, безверия, животности человека, его абсолютной смертности, а потому и с неминуемой перспективой полного уничтожения рода человеческого в будущем, идеи ограниченности сил человека – представляются робкими, трусливыми, унизительными для человеческого достоинства и упорно держаться за них могут либо робкие умом и духом люди, к тому же лишенные эстетического чувства, или же низкопоклонники, карьеристы, жалкие консерваторы, повторяющие давно заезженные азы материализма и безбожия.
Недаром известный проф. Д.И. Чижевский в своей книге «Гегель в России» показал, что так наз. «просветители» (радикалы) и их противники – «консерваторы» из лагеря цензоров Николая I, гнавших Гоголя, – в сущности одного и того же духа. И в биографии Чичикова Гоголь показал, что оба исходят и оба приходят к одному и тому же чичиковскому, то есть мошенническому бесчестному духу, или, лучше говоря, духу бесчестья.
С самых ранних детских лет Чичиков воспитывается в затхлой полицейской атмосфере лицемерия и скуки, полного отсутствия ласки и любви, в самой омерзительной форме «домостроевщины» низкого разбора. «Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязанных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоящую в углу песочницу, вечное сидение на лавке, вечная пропись перед глазами: не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскуча однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память».
Когда же после таких прописей и таких воспоминаний об отце он поступил в училище, то получилось не лучше, а, пожалуй, хуже.
«Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который уже попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевельнуться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! – говорил он. – Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! Ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования – это все вздор», – говаривал он. – Я смотрю только на поведение. Я поставлю полные балы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух, да насмешливость, я тому нуль, хоть он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «по мне уж лучше пей, да дело разумей»…
Такой учитель был вполне подстать ученику, относительно которого Гоголь дает такую характеристику:
«Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличался он больше прилежанием и опрятностью: но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической». Кроме того, надо принять во внимание практическое наставление, данное Чичикову отцом перед вечной разлукой:
«Смотри же, Павлушка, учись не дури, не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, все пойдет в ход и всех опередишь. С товарищами не возись, они тебя добру не научат; а если пошло уж на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными, не угощай и не потчивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Удивительно ли, что при таком родителе и при таком «профессоре» из Чичикова вышел первоклассный мошенник, к тому же абсолютно лишенный сердца и совести? Он берется за службу и здесь тоже обнаруживает себя как хитрейший пройдоха и плут, не знающий ни чести, ни совести, ни сострадания.
«В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить, наконец и пить ему было уже не на что, больной, без куска хлеба и помощи, пропадал где-то в нетопленой, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебром, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: "Эх ты жила!"»
Можно побиться об заклад, что многие из читателей Гоголя никогда не поймут, почему так худо со стороны отца Чичикова и его учителя, «любителя тишины и хорошего поведения», давать такие наставления ученику: ведь из него же выработается вполне благонадежный член общества, который никогда нигде не замутит и будет ходить тихо, как кот, таская все потихоньку, без шума и скандала; до сих пор для множества педагогов и профессоров, занимающих высокие посты, Чичиков только и является единственно приемлемой личностью. Его же противники, умники и остряки, у которых талантливость соединена с добрым сердцем, с точки зрения таких педагогов – да это же «разбой, пожар!».
Здесь Гоголь объединил и привел к одному знаменателю – вне школ, партий, убеждений, состояний – все то страшное, серое, безликое, бездарное – и бессовестное, безлюбовное, убийственное, человеконенавистное, что можно объединить одним термином блаж. Августина: «massa perditionis» – «масса, предназначенная к погибели».
Но вящий ужас в том, что есть люди – и как их много, – которые уверены, что рай только и предназначен для Чичикова, для его отца, для учителя, «любителя тишины и хорошего поведения», а что мучиться будут умники и остряки, таланты и гении, вот те самые, которые помогли бедному и злому дураку и которые, несомненно, будут и молиться за него после его смерти. Чичикову же не до молитв. Ему нужно зашибать копейку, которой многие и многие молятся, как Богу, хотя и уверены при этом, что чрезвычайно благочестивы и поступают так, как нужно. В общем, такова картина греха, нарисованная Гоголем.
Этим, несомненно, и объясняется тот странный факт, что его не пожелали понять ни справа, ни слева, ни посредине. Зато Достоевский, прямой продолжатель и наследник Гоголя по линии амартологии, дописал портрет сатаны, как мелкого беса, который отнюдь не гремит и не блистает в роли падшего ангела, но просто – седеющий джентльмен очень хорошего характера, приживальщик, готовый поддакивать любому господину, и, вообще, приятная во всех отношениях личность. Но сказано: «горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо».
Нам ясна теперь не только амартология Гоголя, но и его эсхатология – учение о последних вещах и о загробной судьбе мелкой серой самодовольной богоненавистной и человеконенавистной пыли, о которой сказано: