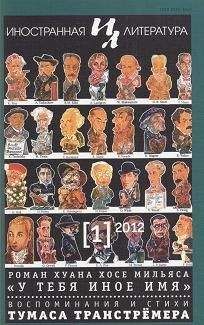Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
Но даже по сравнению со смертью хроменького гусака Теги, к которому так привязалась, приникла душа Анастасии Ивановны, или тяжело пережитой ею гибелью кота Мишки, скрашивающего своей хитрой повадкой долгие зимние вечера, кровь литературных героев, которых мы даже не в силах полюбить, похожа на клюквенный сок. (В американском кино есть понятие «томатная смерть» — жуткие лужи крови из томатной пасты…)
Повторяю, житие — литературный жанр, обладающий колоссальными возможностями нравственного воздействия на читателя. Во-первых, в житии дается необходимый сегодня пример праведно проживаемой жизни, верного пути. Во-вторых, пример стойкого сопротивления трудным обстоятельствам, победы над ними, но победы сильного духом, а не «телом» (понятие «тела» включает и все материальные возможности телесного, то есть жизненного комфорта, обеспеченности и прочее). В-третьих, житие утоляет тоску по «становящемуся» человеку: вот он перед нами со всеми своими «слишком человеческими» страхами и муками, прегрешениями и раскаянием, заблуждениями и просветлением… Изображенная безыскусными литературными средствами, которые и средствами-то назвать трудно, жизнь в «Сибирских рассказах» на самом деле являет собою подвиг, ибо чему, как не подвигу лишь, можно уподобить и утепление на зиму домика навозом, и разведение сада, и обучение детей грамоте, и при всей бедности милосердие и любовь к животным — в той ситуации, когда у других и на людей бы ее не хватило. И радость надежды: «Удивительна сущность жизни — в тяжкие годы, в трудных условиях никогда она не лишала людей якоря надежды». При этом перед нами жизнь подлинная, где физический труд не только не отделен от умственного, но и обладает — в сознании автора — рядом существенных преимуществ. «Как рассказать жизнь? Дни с семьей — там, где моим непосильным, но веселым трудом, на болоте стал домик… Огород подымается!» Рассказы А. Цветаевой, как и любое, в принципе, житие, написаны с чувством временной перспективы — не столько для того, чтобы создать историю своих испытаний, но чтобы заставить других задуматься о себе. О нас самих, о нашей жестокости (или тяге к добру) заставляют задуматься и «клейма» маленьких страдальцев, наших меньших братьев, столь существенные для повествования: гусенка Теги, кота Мишки, собаки Домки. Помните, как у протопопа Аввакума: «И нынеча мне жаль курочки той, как на разум придет».
А чудо? Чудом была сама жизнь, спасенная, отвоеванная (в каждую зиму, в любую опасность) у стужи, у надзора, у голода. Чудом житийным была еще «радость — общение с людьми, нежданные знакомства, от которых — взаимным сочувствием — согревалась душа».
* * *Мне скажут: то беллетристика, а это жизнь; разве корректно их сопоставление? Но я сторонница иной точки зрения; если уж что-то воплотилось в слове, то ответственность общая — как-никак, словесность. Если она не в силах соревноваться с реальностью, пусть — на время хотя бы, пока выстраданная реальность выскажется, — отойдет в сторону, помолчит…
Да и потом — есть же у нас литература, которая стремится дать квинтэссенцию исторической действительности, которая не только не уступает документу, но даже подчас и опережает его мощью своего проникновения в исторический смысл происходящего? В этой литературе продолжается спор о цене и возможностях человеческой личности.
«Разумеется, — говорил Трифонов в беседе с немецким критиком Р. Шредером, — человек похож на свое время. Но одновременно он в какой-то степени — каким бы незначительным его влияние ни казалось — творец этого времени. Это двусторонний процесс. Время — это нечто вроде рамки, в которую заключен человек. И конечно, немного раздвинуть эту рамку человек может только своими собственными усилиями». Не только зависимость человека от времени, но и его ответственность перед ним — вот один из родоначальных постулатов трифоновской проблематики. Помните, как в «Старике» жена говорила Павлу Евграфовичу, оправдывая его, успокаивая его совесть, совесть человека, либо промолчавшего, либо кое-что «сказавшего» и в девятнадцатом (в трибунале), и в двадцать девятом, в тридцать четвертом?.. «Это не ты, это дети наши сказали», — то есть ради детей сработал инстинкт самосохранения!
А уже в наши дни читаем вроде бы покаянное, но написанное в неожиданно оправдательной интонации стихотворение М. Лисянского о Пастернаке «И я молчал» («Новый мир», 1986, № 11):
И я молчал, когда расправу
Над ним, над совестью земной,
Презрев заслуженную славу,
Вершили, словно надо мной.
…Легло на плечи наши бремя.
Его не сбросили года.
Такое было это время.
Такими были мы тогда.
(Разрядка моя. — Н. И.)
Покаяние снимается раздумчивым — да, такое уж было время… Вчера время приказывало ниспровергать Пастернака, сегодня можно — позволено — об этом выразить сожаление и даже отождествить себя с ним… Что завтра грядет? Так покаяние это или самооправдание?
В стихотворении М. Лисянского высказалось как раз неосознанное, быть может, желание — на него, безличное и надличностное, всепожирающее Время, возложить всю ответственность. Говорю я это вовсе не для того, чтобы бросить какую-то тень на сегодняшнюю искренность чувств автора. Но именно через эту искренность выговорилась и позиция, очень определенная и довольно распространенная.
В стихах последнего времени поразительны бывают вроде бы случайные (а в общем-то, типологические) проговаривания, обмолвки, оговорки (как по Фрейду). Какое слово, скажем, произносилось за последние месяцы с наибольшим нажимом? Кроме слова «правда», побившего все рекорды? По моим скромным наблюдениям, слово «боль». И «болевые точки», и «болевые проблемы», и «болевые аспекты», и «болевой порог» искали во всем: в критике, в действительности, в поэзии… Слово пошло по рукам, и вот уже читаем в стихотворении Ф. Чуева, что наряду с достижениями страны поэт гордится и ее «болью»… А ведь по трезвому-то размышлению: чем же тут гордиться, если мать больна? Как говорил в телевизионной передаче Л. Леонов: если мать больна, то не надо в качестве лечения мазать йодом ножку кровати. Но, добавлю от себя, мазать ее медом — поступок еще более странный.
Чем, как не поэтической вольностью, я говоря потверже, недочувствием, можно объяснить и упоминание все той же расхожей «боли» в стихах о Чернобыле, открывающих декабрьскую книжку журнала «Наш современник» за 1986 год:
Народную боль на заносят в ученые акты.
Мы атом сегодня,
в той схватке, осилить смогли.
Пускай человечество помнит
четвертый реактор.
Но если забудет!..
Да позволено будет спросить: разве автор не знает, кто на самом деле виноват? Почему обвинение идет в адрес всего человечества, которое вовсе тут ни при чем, а не в адрес тех, кто действительно виноват, — наших с вами соотечественников, допустивших преступную безответственность? А благодарное человечество должно помнить отчаянных парней («Замрите, народы!»), а не наше головотяпство? Мы-то будем помнить их подвиг («чтобы вольно дышала Земля»), но лучше ведь, чтобы этого подвига-то и не понадобилось?.. Ибо не было бы аварии, не нужен был бы и героизм, действительно проявленный. И человеческие жертвы. Преступное равнодушие и безответственность хотели бы, чтобы о них забыли, а помнили бы лишь о героях.
Доколе же будет продолжаться это мышление фанфарными стереотипами даже в случаях, когда уместен реквием?
Думаю, что эта стереотипная, клишированная «фанфарность» вредит и адекватной трактовке отечественной истории.
Но если мы беду, случившуюся буквально сегодня, способны немедля воспеть в оде, то чем же мы вспомним прошлое?..
* * *Раньше «науки истории», опережая обществоведов, социологов, философов, о «белых пятнах» истории заговорила в полный голос именно литература — «по праву памяти», как отчетливо сказано в одноименной поэме А. Твардовского («Знамя», 1987, № 2 — написано в 1966–1969 гг.). «Двойной контроль» — перед лицом живых и мертвых — диктует поэту слово «речи нелукавой». Что греха таить, и сегодня есть те, кто хотел бы в забвенье утопить прошедшее:
Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!
Об этой «были», по праву памяти противостоящей забвенью, говорится в романе Ю. Трифонова «Исчезновение» («Дружба народов», 1987, № 1). О том времени, когда из дома на набережной (этот образ страны, народа, общества проходит через многие произведения писателя) исчезали люди — революционеры, инженеры, работники народного хозяйства, организаторы Красной Армии. А дети?