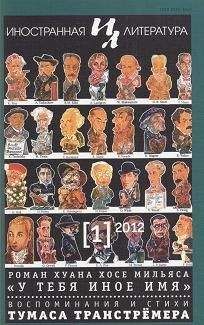Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
Герой повести Гурама Дочанашвили «Ватер(по)лоо, или Восстановительные работы», молодой, чистый душою пастушок, дудочку которого неожиданно услышал старый музыкант, попадает в консерваторию. Однако рядом с величественным зданием консерватории в Городе возвышается странное здание «для исправительных работ». Начинающего музыканта, внезапно для властей проявившего тягу к свободолюбию и непокорству, отправляют на исправление в некую команду ватерполистов. Методом битья по пальцам (если музыкант хватается за кромку бассейна) либо не менее действенным методом подводного битья мускулистой ногой в незащищенный живот его быстро учат уму-разуму. Человек теряет человеческое; гуманизм уступает место отношениям по принципу «сильный сильнее слабого», и вот уже наш бывший пастушок пытается изнасиловать дочь того самого старого музыканта, что привел его в замечательный Город.
Уничтожить в человеке человеческое, сокрушить «самостоянье человека»… А сохранить в человеке человеческое, восстановить достоинство личности в тяжелейших условиях — возможно ли это? Анна Никольская в своей документальной повести «Передай дальше» («Простор», 1986, № 10) доказывает: да, возможно.
О «самостоянье человека» в труднейших испытаниях открыто заговорила наша литература в начале шестидесятых. Литература открыла целый пласт, материк, неизвестный или плохо известный читателю. Но не все та литература успела сказать. Не все было и напечатано — время поворачивалось спиной к памяти, лицом к забвению. И сегодня мы возвращаемся, стремимся договорить то, что не успели тогда.
В этом ряду стоит и повесть А. Никольской, написанная в начале шестидесятых. Анна Никольская — прозаик, переводчик; ей принадлежит перевод монументальной эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая»; имя ее есть в Казахской энциклопедии. Публикации повести предпосланы краткие отзывы о ней Вс. Иванова, К. Паустовского, М. Слонимского. Высоко отзывался о ней в письмах к автору Н. Тихонов. Речь в повести идет о быте лагеря конца тридцатых — сороковых годов, в котором Никольская провела немало лет. Народ там разный: и «политические», и уголовники отбывали свои сроки вместе. А. Никольская сосредоточена не только на этом быте, на этой тяжелейшей испытаниями для тела и для духа жизни, но и на характерах людей и на своей фантастической — если принять во внимание условия и время — попытке вытащить людей из темной ямы бесчеловечности. Идея была, повторяю, фантастична и — одновременно — совершенно проста: организовать среди заключенных самодеятельный театр. «Я хочу, чтобы они смеялись!» — так задумала Никольская. И она добилась невозможного: «Во время репетиций, а тем более — самого спектакля они переставали чувствовать заборы и часовых вокруг себя». Никогда ранее не игравшие, никогда не выступавшие ни в какой самодеятельности люди тянулись к лагерному театру как к светлому островку человечности и надежды. Искусство раскрепощает, искусство освобождает — эта метафора во время чтения повести становится не метафорой, а реальностью. К театру тянулись люди, которые «не могли и не желали примириться с животным существованием в лагере», те, кто «не желал забывать в себе человека». Один из «актеров» признался Никольской: «Очень трудно вспоминать, как ты человеком был». Но именно лагерный театр и пробуждал эти воспоминания.
Бывает так, что острота темы, пережитая автором боль уже как бы снимает разговор о художественности. В случае с Никольской, повторяю, мы имеем дело с документальным повествованием. Тем более впечатляет глубина проникновения автора в психологию, личность своих героев, тех, кого иные пренебрежительно окрестили «лагерною пылью». Часть вторая повести называется: «Люди».
Мастер на все руки Раш. Раш мог все: сделать на сцене фонтан, из которого бьет вода (и это в условиях абсолютного отсутствия какого бы ни было реквизита); изобрести замену неожиданно кончившемуся «гриму»; насадить на заднике «сцены» густой лес… Честность, искренность, привязчивость — вот что такое Раш, сохранивший детскую душу, чистоту и наивность, плачущий оттого, что — по роли — герой погибает. Сам Раш умирает от туберкулеза, но не желает менять лагерь, где и последние месяцы его жизни были освещены театром: «Раш уедет, а душа его здесь останется! А без души Раш умрет, это уж точно!»
Суфлер театра — учетчик хозяйственной бригады, немец Иван Иванович Функ, до заключения — заслуженный учитель в одной из северных областей Казахстана. Человек с «распахнутыми глазами», молчаливый и сдержанный, а для самой Никольской — «замок с секретом», после трагического 41 года замкнувшийся совсем.
Сколько нужно было доброй энергии, стойкости, любви, чтобы здесь сочинять пьески (только без идеологического содержания — таково строгое требование начальства), распределить роли, репетировать, мастерить костюмы и декорации. Объединить людей. Наконец, «давать спектакли»…
Читая Никольскую, невольно вспоминаешь житие — литературный жанр, получивший широкое распространение в духовной средневековой литературе. В связи с движением литературы «в мир» житие переходило сначала в биографию, затем в автобиографию (примером тому может служить «Житие протопопа Аввакума»).
Повествование А. Никольской жанрово ориентировано на житие — обогащенное своеобразными малыми житиями, «клеймами» (по аналогии с иконописью), рассказывающими о жизни и судьбах встреченных ею людей. Жизнь самой повествовательницы описана ею же от дней ее ранней молодости, встречи с умирающим человеком, открывшим ей главный завет, воплощенный ею в повести: «Передай дальше». В этом житии прослежен путь героя-автора — через несправедливые обвинения, испытания, муки отчаяния, страдания к поистине подвижническому труду. Как только кончается этот труд, обрывается и повесть, совсем другая жизнь встречает героя-автора за забором. («Отмучились», — говорят ей перед освобождением, «странно, как о покойнике»; но все, что было потом, после освобождения, — это практически другая жизнь после смерти, воскрешение, кстати тоже входящее в канон жития. А театр — то самое «чудо», которое она действительно сотворила…) Для жанра жития характерно и то, что даже уголовники, «падшие» — для автора отнюдь не окончательно погибшие, а прежде всего люди, и театр, искусство, даже такое, казалось бы, примитивное, пробуждает в них душу.
Повесть А. Никольской — нравоучительная в высоком смысле слова литература, проповедь действенного добра, торжествующего в условиях зла, «метели». «Вокруг все сильней метет колючая пурга… Ну, тронулись!» — так кончается повесть; а из «Жития» Аввакума помнится знаменитое: еще побредем, Марковна, до самыя смерти…
Да, для девочки из восьмидесятых (опять вспомню фильм «Легко ли быть молодым?»), чувствующей себя оскорбленной («Они меня… проституткой называли»), этот опыт малопредставим. Но для того, чтобы понять цену своей жизни, необходимо знать про обесценивание жизни других людей, других поколений.
Как сегодня наша литература справляется с этой задачей — рассказать о подлинной цене человеческой жизни? Скажем, как ощутит эту цену молодой читатель (та самая девочка, к слову) повести Б. Васильева «Жила-была Клавочка»? Или повести А. Алексина «Добрый гений» (благо обе они напечатаны в журнале, предназначенном прежде всего молодежи, — «Юность», 1987, № 1 и № 2)?
Героиня Б. Васильева — молоденькая женщина со старомодным именем Клавдия, одна из сотен тысяч малозаметных москвичек, работающая в одной из тысяч малозаметных московских контор. На руки — 86 рублей, на которые надо и поесть, и одеться, и за комнату заплатить, и в кино сходить, и за город съездить. В конторе Клавочкиной работают такие же москвички — в общем, почти все неустроенные, как говорится, в личной жизни: одинокие, разведенные, кто с ребенком на руках, кто без жилья мается. Коллектив исключительно женский. И, как водится, в таком коллективе, несмотря на общие чаепития и задушевные разговоры, есть свои интриганки, свои предательницы, свои злоязычные. На коллектив падает нелегкое испытание: в конторе должно пройти сокращение кадров. И начальница задумывает избавиться от самой бессловесной, самой тихой и самой, если честно, порядочной девушки — сироты Клавочки.
Конечно, все симпатии читателя на стороне героини, в облике которой автор нагнетает черты робости и забитости, соединяя их, правда, с незаурядно точным взглядом Клавочки на всю контору. Так, на вопрос представителей народного контроля об экономии средств справедливая Клавочка верно ответила, что самая большая экономия будет, если закрыть их контору вообще. Этого, как и следует думать, ей не простят ни злая начальница, ни ее подпевалы — и на собрании они, каждая руководствуясь своими эгоистическими интересами, начинают «топить» Клавочку, обвиняя ее во всех смертных грехах противу нравственности… Нет несчастной Клавочке жизни ни на работе, ни дома; нет у нее ни настоящей любви, ни дружбы (нельзя же считать подругой шалаву-соседку Томку, вваливающуюся с шампанским и водкой, испитую, прокуренную до костей, но все мечтающую о прекрасном принце, или бывшую администраторшу оперетты Липатию Аркадьевну, поглощенную мыслями о несбывшихся надеждах?). Морально разбитая, подавленная несправедливостью, уезжает Клавочка в тихий провинциальный Пронск, где живет некая Марковна, которая в войну спасла и отогрела Клавочкину мать. Но Марковна, оказывается, скончалась. В тихом Пронске Клавочка сразу обретает все то, чего лишена была в оголтелой, кипящей ненавистью (в изображении Б. Васильева) Москве: человеческое участие, тепло, уют старого деревянного дома и даже наследство (на которое нравственная Клавочка желает поставить памятник никогда не виданной ею Марковне), а также симпатию в лице скромного милиционера Сергея. Однако автор не мирится с этой, слишком уж пышным цветом и как по мановению волшебной палочки расцветающей идиллией. Клавочка зверски убита местными бандитами.