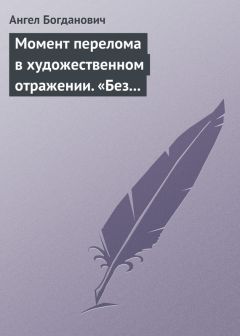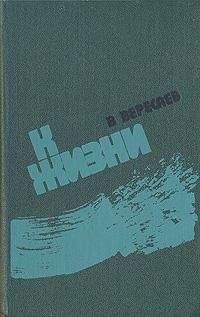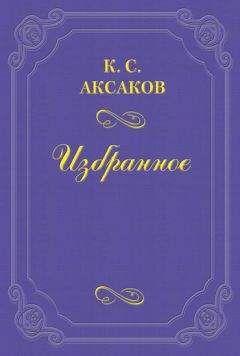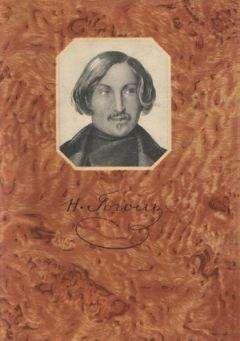Константин Аксаков - Письма о современной литературе
Санди, английский слуга, говорит леди Элеоноре: «Да уж, право, я не знаю, оно и тово-с! Пришло, видите ли, письмецо к вашей милости… То есть не то чтоб оно действительно пришло, а так-с…»[8]. А прекрасная леди Маргарета говорит про одного офицера (как видно, в шутку), что он «в некотором роде жизнию жертвовал для Отечества»[9].
Вот как описываются сокровенные движения герцогини Ланарской: «Должно заметить, что об этом кузене ее светлость не заботилась никогда и даже едва помнила о его существовании; но надлежало, во что бы то ни стало, поставить пику Маргарете, и пика была поставлена, так что оказалась полная возможность отвечать кому следует: вот, мол, что, знай нас»[10].
А вот, наконец, тон самого романа, самого автора; не забудьте, что автор – женщина: «О вы, бедные старые девы, эдинбургские, лондонские, парижские и всех других главнейших городов Европы и Америки! Какими тощими кошками представляетесь вы мне в сравнении с моей героиней! Во прах, во прах, на колена перед Тибби, перед этим истинным идолом старого девства. Смотрите на нее – и облизывайтесь»[11].
Каков тон! И это уже тон самого английского автора, по милости его переводчика. Бедная мистрис Нортон! Каков наш переводчик! Даже признательно вам положить, оно и тово-с, задали вы, г. Введенский, смею сказать, в некотором роде перцу англичанке: знай читать наших, вот, мол, что!
Мало того тона, которым одолжает англичан переводчик; он еще выпускает, прибавляет, изменяет смотря по своему произволу. Он сам объявляет об этом с неподражаемою изумительною наглостью, объявляет печатно в «Отеч. зап.» прошлого года; его объяснение само могло бы быть занесено в какой-нибудь юмористический роман и заняло бы там не последнее место. – Подобного рода переводами переводчик мешает знакомству нашего читателя с литературой англичан и доставляет знакомство с собой как с сочинителем, знакомство, чести которого вовсе не добивается читатель, желающий узнать Теккерея или Диккенса. Не показывает ли издатель журнала полного неуважения и к иностранному автору, и к русскому читателю, когда печатает у себя переводы, в которых переводчик местами разные приправы, а местами целую стряпню своей домашней кухни выдает за произведение чужое? Не справляться же везде с оригиналом, чтобы узнать, где говорит Диккенс, а где г. Введенский.
Кроме этого способа переводить попадаются еще, как в переводах «Отеч. зап.», так и других петербургских журналов, сильные промахи против русского языка, который мало-помалу искажается и забывается в Петербурге. В переводе «Пенденниса» в «Отеч. зап.» за нынешний год говорится, что Пенденнис пошел обстрикнуться. Это слово не какого-нибудь лица в романе: это слово текста. Такое неправильное употребление глагола напоминает нам известный анекдот о двух немцах. Один немец, желая пощеголять знанием русского языка, сказал другому: «Я сегодня обстрикался». Другой немец ответил: «„man muss sagen“[12] обстрикнулся». Переводчик «Отеч. зап.» следует, как видно, второму немцу; не диковинка, что и первый немец найдет себе последователей в русском языке петербургской литературы. Вот еще пример. В «Отеч. зап.»[13] сказано: «навались на веслах». Разве «на веслах»? Должно: «на весла!» – вот крик гребцов. В этом же журн. номере была очень забавно употреблена русская пословица «славны бубны за горами»: «Современник» с гордостью говорит, что теперь «не только за горами славны бубны». Когда встречаешь подобные ошибки, то думаешь, что перед вами иностранцы, говорящие по-русски. Есть еще один маловажный, но забавный промах г. Введенского в переводе «Опекуна»; он говорит: «Ведь был же Одиссей узнан своим старым слугою: как же это могло статься, что жена-то не узнала его?»[14]. Одиссей был узнан не слугою своим, а служанкой, няней Эвриклией. По-английски сказано: the servant; род здесь не обозначен, а переводчик подумал, что здесь говорится о слуге. Нам кажется, что образованному переводчику надо бы хорошо знать Гомера.
Скажем общее замечание о переводах. В каждом народе и в каждом языке есть общее человеческое достояние и есть оттенок собственной национальности. Не будь первого – не было бы взаимного понимания народов, не будь второго – не было бы жизни и действительности, и общее оставалось бы отвлеченным. – При переводах общая сторона передается в том же духе и на другой язык; но национальность никогда не может и не должна передаваться национальностью. Национальностями различаются народы между собою. Что же выйдет, если эти разницы смешаются, если, передавая особенность народа, вы уничтожите ее, заменив особенностью другого народа? Выйдет совершенная бессмыслица; это будет уже не перевод, а беззаконная и безобразная замена одной особенности другою; все равно как если бы вы вздумали одеть Джон-булля русским крестьянином или русского крестьянина Джон-буллем. Сходясь в общечеловеческом значении, они расходятся в образе национальном.
В нашей литературе переводы занимают такое важное место, что мы сочли не лишним сказать об них несколько слов.
Что же скажем мы в заключение нашего обозрения современной литературы?
Она многоплодна; это не подлежит сомнению. Перед нами множество писателей и множество произведений; но что высказывает она? какая мысль движет эту массу повестей, романов, комедий и проч.? Ничего она не высказывает, и никакая мысль их не движет. В самом этом отсутствии мысли есть свой смысл. Эта бессмысленность, бесполезность талантов выражает, по нашему мнению, прекращение литературы, начавшейся с Кантемира, дух которой был – подражательность. Эта литература давала нам поэтические произведения, более или менее отвлеченные, произведения истинных талантов, попавших на общий ложный путь; она давала нам их, пока не замкнула своего круга, пока не истощила своих сил, пока не поколебалась вера в ее направление. Но теперь наступила эта минута, и прежняя литература, после полутораста лет своей деятельности, впала в совершенное бессилие. На рубеже ее стоит Гоголь, величайший писатель русской, не договоривший своего слова, которое рвалось в новую область. Когда решится задача, чем станет русская мысль и поэзия, – это дело будущего. В настоящее время перед нами болтливая толпа писателей, лишенных, видимо, значения, покинутых духом древней эпохи, свидетельствующих собою о прекращении целого направления. Из этой массы ненужных слов, из этого книжного потопа выплывают на поверхность несколько произведений, означенных или мыслию, или каким-нибудь достоинством. Есть несколько авторов, которые хотя ничего не изменяют в состоянии нашей литературы, но в которых светится какая-то чуть видная заря литературы будущего дня, которая исчезнет, как скоро появится солнце. В настоящее время этот проблеск много значит. Такой писатель – г. Григорович, отчасти г. Тургенев и Котляревский. Заметен также г. Островский и повесть г. Крестовского; мы уже объяснили, в каком отношении. А остальное… одна ненужная, бесплодная масса, – и только.
Такова наша современная литература. Но унывать мы не будем: пусть темнеет ночь прожитого наконец нами дня; мы знаем, что жизнь жива; не станем же жалеть о ее выражении, брошенном и потерявшем свой смысл, выражении, в котором было столько ложного.
Дела нам много, и, конечно, первое место в наше время принадлежит мысли в ее справедливой и светлой деятельности; ученые занятия, исследования имеют в наше время важное значение. Самобытное мышление, сознание самих себя, сознание русского начала жизни, выразившейся в народном быту и общественности, в истории, в языке и т. д., сознание достигаемое изучением нашего прошедшего вообще и настоящего в простом народе, – вот наше дело; оно пробуждает в нас вновь русского человека, так долго спавшего и видевшего такие дурные сны.
Письмо IV
Новейшее направление нашей литературы
В предыдущем письме я говорил о современном состоянии нашей литературы и указал на новое движение, образовавшееся движение от этой жалкой сферы так наз. образованного общества, от новых странно-бледных копий с Западных обществ, от этих героев-мужчин a la Barbier, от этих дам a la George Sand, столь богатых победами, страданиями и страстями, от этих вечных лгунов мысли, чувства и жизни. – Вся эта лихо играющая влагой улица, искусственным жаром теплицы, в которой растения вянут при своем появлении из зерна, вся эта область может быть предметом для созерцания художника, – только с точки зрения высоко-комической, только в силу обличения ее лжи, элемента ее существования. Попытки такого изображения этой сферы были, но не были вполне искренни и падали только на некоторых представителей этой сферы. Между тем мысль уже давно указывала на ложь всей этой области жизни, оторванной от жизни народной, указывала на простой народ как на хранителя русских начал, указывала на его быт как на быт самостоятельно русской, в котором лежит для нас опора, указание и надежда, из которого, как из зерна, разовьется самостоятельная жизнь для России, обогащенная опытом, укрепленная мыслию, прошедшая сквозь соблазн обезьянства, сквозь искушение отрицания. Литература наша, относясь более с чувством какой-то понятной гордости к крестьянам и вообще ко всему народному, наконец иначе обратилась к русской народности, сперва с некоторым почтением, которого как будто стыдилась, как будто совестилась, что с русским мужиком она входила в сношения серьезные; но мало-помалу сила правды подействовала на наших писателей, и в нас заговорило, м. б., робкое и радостное желание оправдать русского крестьянина (короче, писатели стали его адвокатом). Таким образом образовалось целое направл. литерат. и многие писатели стали деятельно описывать, изображать народный быт, крестьян; такое направление литер., такое направление талантов в писателях видно заметнее.