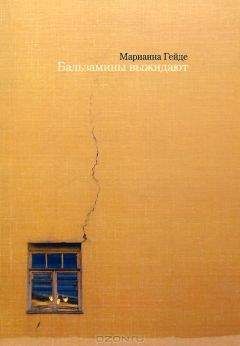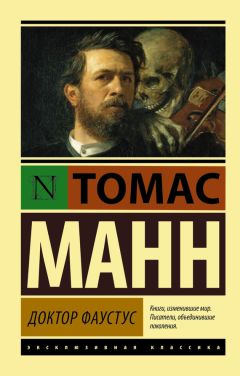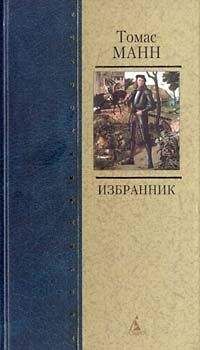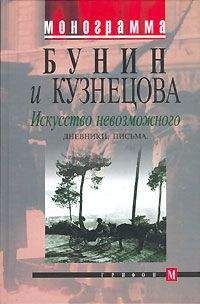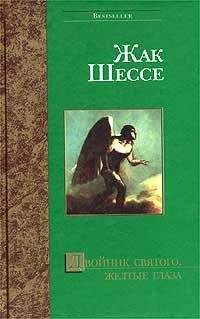Петер Надаш - Тренинги свободы
Что же до «трудовых песен», тут первенствовал я. Не то чтобы я охотно, без конца и немедля жаждал делиться с кем попало своими неожиданно и беспорядочно возникающими мыслями — напротив, я оказался в преимущественном положении именно потому, что не люблю и даже в духовном смысле считаю подобное свойство достойным презрения. Боязнь оказаться в таком положении настраивает на осторожную, и даже не без робости, выборочность. Поэтому со временем я приобрел некий опыт в том, каким образом следует приводить в определенный порядок, связывать или, наоборот, отделять друг от друга мысли, которые возникают у человека помимо воли. Злоупотреби я своим преимуществом в этой области, мне пришлось бы не раз находить не только смешными или отталкивающими некоторые его соображения и ассоциации, но даже отвергать их, резко клеймить, — однако я получал гораздо большее удовольствие в том, чтобы обнаружить глубинный смысл в его невзначай пропетых мыслях, определить место их зарождения, нежели сказать нечто такое, что могло бы создать между нами бессмысленное напряжение. Мы были взаимно внимательны друг к другу, и, как я проникся уважением к его естественной способности уважать достоинство другого человека, так, думаю, и он не мог бы пожаловаться, что я способен нанести ущерб этому чувству, которое для человека всего важнее. Одним словом, мы уважали друг в друге способность уважать достоинство другого человека. Как будто согласились на том, что только разглядев в другом человеке наши собственные свойства, можем уважать их как свои.
Минуло несколько недель, и наконец наступила минута, когда два человека, оставшись один на один, признаются, что их дружба наполнилась теплом, закрепилась. Под нещадными лучами летнего солнца нам приходилось горбатиться в длинном, почти двадцатиметровом рве почти двухметровой глубины, так что даже затылков наших сверху уже не было видно, над нами — только небо. Мой мастер работал кайлом и заступом, я двигался за ним с совковой лопатой. Я должен был выбрасывать наверх тяжелые комья разрыхленной им земли так, чтобы не осыпались обратно даже мелкие комья со все возраставшего холма вдоль рва. На такой глубине совсем другой запах, иначе звучат слова. Ты словно бы стоишь в потревоженной таинственной и древней жизни, не говоря уж о том, что проводишь свой этот день там, где в конце концов окажешься навсегда. И тут он вдруг возьми и скажи, что он ненавидит евреев, они ему противны. Я тотчас спросил, все ли они ему противны? Все без исключения, ответил он. По решительному его ответу, я пришел к выводу, отнюдь меня не поразившему, что по-видимому, это отвращение и есть причина его ненависти, а ненависть подпитывает отвращение. Но если то или иное чувство изо всех сил держится за ненависть, тогда не остается места рассудку, а главное — нет места доводам разума, исходящим от другого человека. Самое большее, что я могу здесь поделать, это поймать его ненависть в ловушку, сообщив ему, что на этот раз он все-таки сделал исключение, а, следовательно, такую же ошибку против собственного твердого убеждения он совершает, когда в полной мере ненавидит полуеврея или когда наполовину ненавидит того, кто вообще не еврей.
К чему отрицать, его заявление застало меня врасплох, хотя я и не утверждаю, что не допускал чего-то подобного. Перед собою я хвастался тем, что могу не только сказать о ком угодно, испытывает ли он потребность в таком признании, жаждая публики и публике его предлагая, но заранее даже знаю, когда у него возникает такая потребность. Просто знание людей и жизненный опыт. Однажды, например, я проехал двести пятьдесят дребезжащих километров с незнакомым шофером и, мысленно оценив уровень его интеллекта, на обратном пути рассчитывал про себя, когда он надумает соответствующими словами выразить испытываемую ко мне симпатию — когда мы подъедем к городу или когда будем уже неподалеку от нашей конечной цели, то есть когда свернем с Фехерварского проспекта на улицу Андор. Я не просчитался, так как правильно определил градус нашей дружеской приязни. И на этот раз не ошибка в расчете стала причиной моей неготовности, а взаимно испытываемое дружеское чувство приглушило эту готовность. Обычно я с большим любопытством вступаю в подобные игры, и моему любопытству редко мешает личная обида. Я начинаю с того, что с чувствами не спорят. Поэтому самое большее, о чем можно спросить человека, — в какой мере соответствует его чувству захлестнувшая его ненависть. Об этом можно расспросить его основательно. Что, разумеется, дело хитрое, ведь горячей и бережно пестуемой ненависти ничто не ненавистно так, как обращенные к ней вопросы. Но если благодаря таким расспросам она все-таки несколько ослабеет, тут и само породившее ее чувство уже не может цепляться за нее с прежней убежденностью. Ему требуется какая-то иная опора, но тут, правда, возникает другой вопрос — где и в чем способна данная личность обрести новую опору в своем душевном устройстве.
На другой день мы работали в том же глубоком рву. Те же движения, то же голубое небо, тот же запах, и свободно лепившиеся друг к дружке слова звучали все так же. Внезапно он брякнул, что ненавидит цыган и, его б воля, извел бы их под корень, всех до единого. Кровь бросилась мне в голову, я стал орать на него во весь голос. Однако, в краткий миг между тем, как мир заполнился тьмой, и моим неистовым ором много всего успело промелькнуть в моей голове. Если бы я прежде не питал к нему дружеских чувств, если бы накануне не записал себе, как очко в мою пользу, то, что своими вопросами сумел несколько поколебать его ненависть, тогда, вероятно, меня не задело бы так глубоко и лично это новое заявление. Но ведь я именно потому и испытывал к нему дружеские чувства, что верил в его душевные качества и нравственные устои. В результате я разочаровался не в нем, а в самом себе, в собственных суждениях; моему знанию людей был нанесен жестокий удар. Вчера — еще не окончательно, сегодня — полный нокаут. Вот от чего мне так больно. Нет, с таким человеком нельзя оставаться вместе, ни минуты, иначе я перестану быть самим собой. Не потому, что он, если уж не может ненавидеть евреев, то ненавидит цыган, а потому, что мне причиняет боль собственное мое разочарование, и об этом мне говорить с ним невозможно. Разочарование и беспомощность — отсюда и ярость.
Словом, я уже почти готов был заорать, но в мозгу еще нашлось время для некоторого трезвого расчета. Если сейчас я наору на него, то и за тридевять земель не найду такого мастера, как он, и в результате из-за этой все равно совершенно безнадежной идеологической свары строительство моего дома остановится… Нет, все равно — пусть убирается. И я услышал, что моя ярость громче моего здравого смысла. Я уже орал. Что-то вроде того, что человек, которому хочется убивать, уже убийца, и если есть желающие пролить кровь, она непременно прольется. И если десять лет спустя опять хлынут потоки крови, пусть вспомнит о том, что льется она из-за таких разговоров, из-за вот этих самых слов, ни от чего другого. Он не бросил работу. Возможно, и его одолевали похожие соображения: повернуться сейчас и уйти — значит, признать, что он потерпел поражение, разочаровался в своем искреннем добром чувстве, не нашел нужного языка как раз там, где искал его, — иными словами, вынужден будет испытать недовольство собой, признать, что он плохо разбирается в людях. Наше затянувшееся молчание становилось почти невыносимым. Затем, между двумя взмахами заступа, он проворчал только, ладно, мол, можете и в другой раз покричать, этим его обидеть нельзя, потому как если на него накричит кто, он только посмеется в усы, всего и делов. Его ответ не лишен был элегантности.
Но мы не только не смеялись, а даже словом не обмолвились друг с другом, и так прошло несколько дней. Ну а потом, как это обычно бывает, у нас столько забот и неполадок было с работой, что хочешь не хочешь, а разговаривать все же пришлось. И мы вернулись к нашим трудовым песням. Но не прошло и недели, как он заявил вдруг, что видеть не может гомиков. Надо их всех переловить и всех до единого выхолостить. Ножом. Своими вопросами я отвадил его от евреев, ненавидеть при мне цыган он тоже не мог, иначе я опять орать на него начну, но что же нам теперь делать с этими бедолагами гомиками? Он словно бы предлагал мне последнюю возможность. И, со своей стороны, он пошел на немалый риск, бросая этот пробный камень, ведь справедливость своей ненависти он мог проверить только моей реакцией. Я поднял на него глаза. Как будто рассчитывал увидеть на его месте не взрослого мужчину, а невинного несмышленыша-ребенка. В эту минуту он наклонился за чем-то, стоя ко мне спиной. Впрочем и лицо его мне ничего не объяснило бы. Охотнее всего я бы дал ему хорошего пинка в зад, чтобы он грохнулся в землю носом. Я не произнес ни слова. Я решил, что буду оппортунистом, не стану защищать гомиков, оставлю их ему. Пусть ходит со своей ненавистью из дома в дом, таскает ее за собой, как хочет и может. Мое молчание, однако, смутно тревожило его. Или гомики эти очень уж достали его, не давали покоя, и он просто не мог остановиться, то и дело к ним возвращался. Доводы его были самые что ни на есть банальные; они у меня просто в ушах навязли. То и дело он спрашивал, что я об этом думаю, но ответа не получал. Я целиком ушел в свою работу, однако он все продолжал диалог сам с собой. Высказывал свои представления и фантазии, подкрепляя их соображениями об общей пользе. Я молчал — не сердито молчал, а разве что с жалостью. Все, что он говорил на эту тему, я действительно считал не заслуживающим обсуждения. Он держался за свою ненависть, потому и прикипел к этой теме. Об этом мне тоже сказать было нечего. Он так цеплялся за свою ненависть, что выговорился полностью, вернее цеплялся до тех пор, пока говорить уже стало не о чем, и это, в конце концов, здоровый выход. Он справился со своей задачей в одиночку, и не мог бы сделать это лучше, даже если бы я не молчал. Начав с ножа для выхолащивания, он добрался до более чем великодушного признания, что люди устроены очень по-разному.