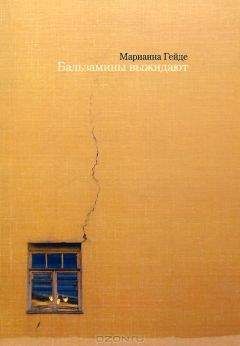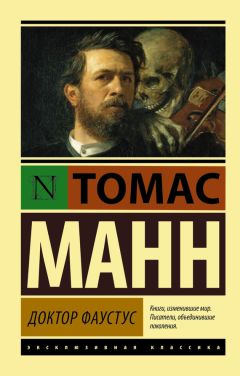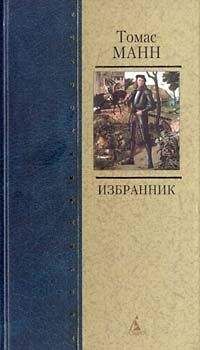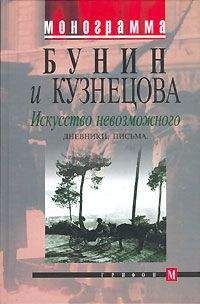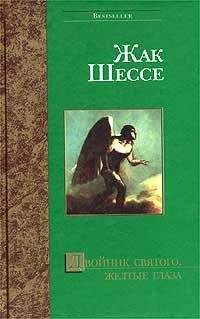Петер Надаш - Тренинги свободы
Не закономерно ли, что Франц Кафка превратился в насекомое именно в Праге времен монархии? Или этот ужасный сон мог бы присниться ему и в Риме, в Париже, в кайзеровском Берлине? Ну а в Варшаве? А в Будапеште? Ярослав Гашек не смог завершить историю Йозефа Швейка, скончавшись в 1923 году. Кафка умер в 1924 году, не доведя до конца историю Йозефа К. Не символично ли совпадение, что оба шедевра так и остались незавершенными? Именно в этом месте? И именно в это время? То, что обоих, и Швейка, и господина К., звали Йозефами, разумеется, игра случая. Но не стоит ли поискать более глубокую, сущностную взаимосвязь между ними? Кафка еще успел написать заключительную главу истории Йозефа К. Главу, исключающую всяческие сомнения, — о смерти Йозефа К. Швейк, однако, остался в живых, ибо умер Гашек. Но что могло бы с ним приключиться? Жив ли он и поныне? Можно ли верить распространенной легенде о бессмертии Швейка? Верить ли, что он в любую минуту может подсесть к нам за столик? Или судьба его тоже свершилась? В той же заброшенной каменоломне за городом, при свете луны? Возможно ли, что на его горло тоже легли руки одного из господ, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды? Возможно ли, что словесная магия помогла ему так же мало, как брату его — магия юридическая? Самым надежным отправным пунктом нашего расследования будет трактир «У чаши», куда мы возвращаемся после проигранных войн. Куда мы всегда возвращаемся. Но застанем ли мы там Швейка? Услышим ли о нем что-нибудь? И если застанем, то в той ли самой инвалидной коляске, в которой он отправился на войну? И сохранил ли он в чистоте свой идиотизм? Болтает ли он по-прежнему? Если да, то как? Ведь мы помним, прекрасно помним, что впустую он не болтал. Он вообще не болтун по натуре. Уж если он говорит, значит так надо. Значит о чем-то надо сказать. И как здорово он говорит — к его фразам не придерется никакой суд, они от суда ускользают. Они неподсудны, но каждая — приговор. Все его существо — процесс. Во избежание недоразумений: Швейк вовсе не фарисей, но и не пророк, и не мученик, и не торговец идеями. Идиотизм Швейка — это психическая реакция, естественная функция организма. Он использует его в целях самозащиты, а если нужно — и для нападения, и для бунта. Идиотизмом он защищает ближних. И этим душевным движением замыкает крайние полюса — мир нормальных людей и мир сумасшедших. Стало быть, мы хотим сказать, что напрасно искать следы Швейка как в стенах «нормальных» психушек, так и в официальных списках исполнителей приговоров? Но ведь с тех пор изменилось так много. В романе Гашека нет описаний природы. Однако писатель все-таки дарит нам одну незабываемую картину: на покинутом поле сражения тела убитых, конские трупы, кучи дерьма, искореженные лафеты. Имеющий уши услышит, как голос Гашека поднимается на октаву выше. Картина не лишена иронии, но все же она мрачна и ужасна. А ведь это еще не настоящий ужас. Только путь к нему. На настоящую войну Швейк так и не попадает, Гашек словно бы собирается с духом, намеренно тянет время, как бы опасаясь, там Швейку идиотизм не поможет, его ждет апокалипсис. Но и этого будет мало! А что еще впереди! А что после того! «Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдают за развязкой. — Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его». Мы ищем последние слова Швейка. Было бы очень важно найти их. Эти два Йозефа, не они ли — наш миф?
(1976)
Что это такое? Что это значит для меня? Что это значит для тебя?
Приближаюсь и отдаляюсь, подхожу ближе и снова отступаю назад. Потом присаживаюсь на диванчик в центре одного из овальных залов, чтобы опять увидеть все целиком. Поднимаюсь. Ступаю такими медленными шагами, чтобы картина распадалась прямо на моих глазах. Как бывает, когда снимаешь очки. Она рассыплется на те самые частицы, из которых живописец построил целое.
В двух овальных залах парижского музея Оранжери, перед «Кувшинками» Клода Моне я стою, сижу, расхаживаю, вновь и вновь повторяю свой маневр приближения — удаления до тех пор, пока бдительное беспокойство музейного смотрителя не отвлекает меня наконец от этого маниакального занятия. Он подозревает во мне одного из тех фанатичных безумцев, которые способны наброситься на предмет своего поклонения с ножом, палкой или соляной кислотой. Он пристально смотрит на меня, а я всматриваюсь в картину — скорее нет, уже не в картину, но в сам способ, которым Моне отделил от того, что доступно восприятию каждого, то, что способен был воспринимать лишь он один. За каждым из тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч мазков скрывается принятое художником решение, а за его решениями — наверняка еще в десять, сто, тысячу раз большее число наблюдений и размышлений. Как говорит он сам: «Я ничего больше не делал, лишь смотрел, как мир показывает мне себя…» Видение, наблюдение, размышление, выбор, решение, мазок кисти.
Если понятие «креативность» вообще имеет какой-либо смысл, то смысл этот можно по-настоящему пластически ощутить и объяснить-, наблюдая, как истончаются и сгущаются, темнеют и светлеют слои краски. Я как будто могу коснуться его пальцами. Передо мной — покрытый густым слоем краски холст, уже не видимый глазу, а на нем — все эти таящиеся под красочной рябью наблюдения, мысли, суждения и решения, которые, со своей особой упорядоченностью, явно обретаются где-то на грани между реальным миром и миром воображаемым. Возможно, они принадлежат реальности? Но каким образом? А может быть, это мир воображения? Но ведь он уже в действительности написан, выстроен, расслоен, упорядочен! Мне приходится сдерживать свои любопытные пальцы, чтобы под бдительным оком смотрителя не прикоснуться к окаменевшему многоцветному слою рассуждений, избранных путей, решений.
Шедевры искусства могут не только показать нам, куда их создателя привело воображение, но и вернуть нас к тому месту, откуда он начал свой путь. Вернуть нас к тем ивам, к тем кувшинкам, к тому пруду. Когда мы с другом или возлюбленной стоим на берегу пруда, любуясь закатом солнца, я вижу лишь то, что доступно мне самому, но не могу даже догадываться, какую картину видят они. Надеюсь, что похожую. Они говорят: это прекрасно, то же самое говорю и я. Однако слова остаются словами, а значит, и наше стремление отождествиться друг с другом или уподобиться друг другу в прекрасном братском единении остается лишь надеждой. Но при созерцании шедевра все коренным образом меняется: ведь теперь моим непосредственным впечатлением становится ви´дение другого человека. Я вижу нечто, о чем без этого произведения не мог бы даже догадываться, и лишь только так я могу понять, насколько друг или возлюбленная близки мне или, наоборот, далеки, представить себе дистанцию между мной и моими собратьями. Вещи, созданные благодаря креативности, то есть творческой способности художника, уже многие тысячелетия посвящают нас во что-то такое, что иначе проявиться не может. Они не только творят видимые глазу отношения между природой и вещью, между частью и целым, но и, соединяя времена и пространства, настолько тесно сближают незнакомых друг другу людей, что те на миг ощущают себя возлюбленными или друзьями. Благодаря этим вещам исполняются такие наши желания и надежды, которым в повседневной жизни сбыться не суждено.
Стоит ли удивляться, что демократические европейские общества в последние тридцать лет стремятся сделать доступным всем и каждому удовлетворение именно этого глубочайшего, древнейшего и лишь чрезвычайно редко осуществимого желания? По крайней мере с помощью слова, если по-иному это сделать уже невозможно. Если у тебя есть хорошая идея, если ты можешь с ходу решить проблему, которая другим кажется неразрешимой, если ты сам собираешь из готовых деталей книжную полку, если организованное тобой движение за гражданские права изменяет существующие порядки, — ты можешь удостоиться высокого и ценного звания «креативного» индивида. Сейчас, когда я пишу эти строки, я раскрываю последний номер Le Nouvel Observateur, и вот какие строки попадаются мне на глаза: «Голубые изменили мир. Это притесняемое и креативное меньшинство за тридцать лет наряду с феминистками, а часто и вместе с ними, преобразовало чувствительность западного мира».
Понятие «стол» обозначает стол потому, что не означает ничего другого — ни стула, ни моркови, которую я кладу в суп. С понятием креативности дело обстоит иначе. В языке демократических европейских обществ «креативность» не просто превратилась в слово, пригодное для обозначения весьма разнообразных и разнородных действий, жестов, мыслей; это слово уже не только обозначает, но и характеризует, более того, служит чем-то вроде привилегии. Я, однако, склонен думать, что слову этому было присвоено столь особое, привилегированное значение для того, чтобы в неопределенности его смысла исчезли те гигантские различия, которые в западной культуре на протяжении тысячелетий отделяли творца от сотворенных им существ. Если творцом (créateur) может быть каждый, то, стало быть, уже никто не может быть тварью (créature), и тогда — по крайней мере в словесной форме — становится возможным претворение в жизнь одного из главных и излюбленных лозунгов демократии — равенства. Если нет богов, то вещи и люди равноправны, а раз между ними нет различия, то нет и иерархий. Я не умею изображать на холсте ни воду, ни кувшинки, но это не значит, что я в чем-то ниже рангом, чем Моне: ведь точно такие же я могу когда угодно заснять на пленку. Таким образом, сама возможность жеста и технические приемы, используемые для осуществления этой возможности, неизбежно оказываются важнее, чем качество результата. Литературный язык демократических обществ по крайней мере столь же деликатен в обхождении с иерархиями, сколь либерален в отношении творчества («креативности»). Вопрос еще, в какой степени подобная языковая либеральность, больше не усматривающая разницы между творчеством и махинациями, между индивидуальным и массовым, может вписаться в культуру, основу которой составляет именно это различие.