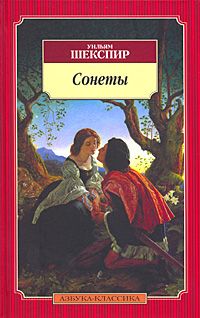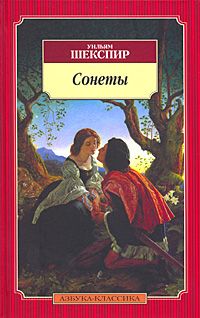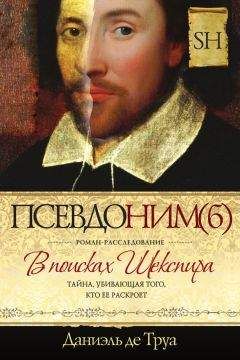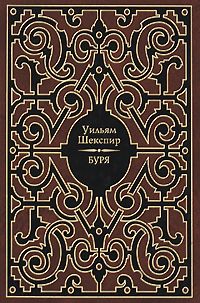Бернгард Бринк - Шекспир, как комический и трагический писатель
В «Юлии Цезаре» относящийся к времени исторический интерес сохраняет свою силу рядом с интересом общечеловеческим. В «Гамлете» проблема взята в её самом обширном, мировом значении и представлена с неистощимою для всех будущих времен глубиною. Что из пережитого Шекспиром в его прошедшем и переживавшим в настоящем вызвало то настроение, из которого родился «Гамлет», какие моменты дали поэту повод здесь спуститься в тайники своей собственной души еще глубже, чем спускался он до тех пор – это, быть может, останется тайною навеки.
И тайною останутся также до известной степени характер Гамлета и то, что составляло собственно цель поэта. Если Гёте в «Вильгельме Мейстере» и дал ключ к разрешению проблемы, то мы все-таки, по-видимому, не проникли дальше его во внутренность святыни. Само собою разумеется, что я не стану здесь к бесчисленному множеству комментариев «Гамлета» присоединять наскоро и свой новый. Позволю себе только высказать, как мое твердое убеждение, что сделанное Гёте объяснение проблемы «Гамлета», хотя и оставляет многое неразъясненным, все-таки правильно обозначило границы, в которых заключен центр тяжести проблемы. Когда Гёте говорит о Гамлете и его задаче: «от него требуют невозможного – невозможного не само по себе, а только того, что для него невозможно», то этим он с возможною точностью намечает тонкую линию, которой должно держаться исследование и от которой оно так любит отдаляться. Что касается новейших толкований, напр. Вердера, который усматривает решающий момент трагического конфликта в фактических препятствиях выполнению задачи Гамлета, и по мнению которого дело идет здесь о том, чтобы в одно и то же время наказать убийцу-узурпатора Клавдия и дать миру стоящее выше всяких сомнений и юридически достаточное доказательство его вины, – что касается этого и подобных ему толкований, то о них я замечу одно – что Шекспир очевидно и не думал о чем-либо в этом роде, ибо он упорно не пользуется ни одним из представляющихся ему удобных случаев высказать такую цель. Нигде не показывает он нам Гамлета занятого действительным обсуждением своей задачи, объяснением того, что составляет собственно её содержание, её важности, находящихся в его распоряжении средств выполнить ее, сопряженных с этим делом затруднений. И во всяком случае я очень твердо убежден, что неправилен метод, по которому вещи, умышленно или неумышленно оставляемые Шекспиром в темноте, не только стараются осветить, но еще подвергают микроскопическому анализу и делают исходною точкою исследования. То, что Шекспир находит нужным высказать, он обыкновенно высказывает довольно ясно; а что он умалчивает, то по всей вероятности признавал он несущественным, и таким поэтому должно оно оставаться и для нас.
Центр тяжести проблемы «Гамлета» должен таким образом лежать конечно в характере героя, в том виде, каким его сделали страшные события, предшествовавшие драматическому действию и каким он развивается далее, в виду предстоящей ему задачи, пред нашими глазами. Но этот характер, хотя и прозрачный, так однако глубок, что никто еще до сих пор не проникнул взором на дно его.
Гамлет остается тайною, но тайною, неодолимо привлекательною вследствие нашего сознания, что это не искусственно придуманная, а имеющая свой источник в природе вещей, тайна. Вы чувствуете внутреннюю правду этого характера, хотя и отчаиваетесь когда-нибудь объяснить его вполне, до последней черты. И что самое главное – чувствуется общечеловеческое, типическое в образе Гамлета: так, как он, или хотя подобно тому, ведь все мы хотя иногда думали и чувствовали, действовали, или вернее, бездействовали. Внутренний конфликт в его широчайшем, обнимающем все человечество, значении, изображен здесь с несравненною правдивостью и с самыми реалистическими подробностями. В этом заключается особенная прелесть «Гамлета» между главными трагедиями Шекспира. «Отелло», «Макбет», «Лир» не менее глубоки, не менее широко задуманы, не менее драматичны, – в этом отношении они даже отчасти превосходят «Гамлета». Но такое психологическое во всех отдельных частностях изображение, такое обилие подмеченных в природе человеческих черт, такую массу и тех черт, которые заставляют нас спускаться в глубину нашего собственного духа – все это мы находим только в «Гамлете». Высший реализм, даже натурализм производит здесь высшее поэтическое действие – конечно только потому, что это примененный к самому идеальному предмету реализм именно Шекспира, который своего Гамлета щедрее, чем всякого другого героя до него и после него, наделил скрытыми на дне его собственной души сокровищами.
«Отелло» принадлежит к тем трагедиям, в которых герой во всю первую половину пьесы, до кульминационного пункта, играет больше пассивную, чем активную роль – как и не может быть иначе в трагедии ревности. Но тем решительнее его собственный поступок, подготовляющий почву, на которой может зародиться его ревность, т.-е. похищение Дездемоны; тем решительнее его собственный поступок, вызывающий трагическую катастрофу; и к этому последнему вынуждает его исключительная сила господствующей страсти – и притом страсти ужаснейшей, с бешеным тиранством разрушающей его душу. И нельзя упускать из виду, что узел драматического конфликта лежит здесь всецело в характере героя. Влияние, пришедшее извне, ограничилось интригою – правда, поведенною с дьявольскою хитростью – Его. Немного бы больше знания людей, немного бы более проницательности, сколько-нибудь хладнокровия – и Отелло разорвал бы накинутую на него цепь. Обратим внимание и здесь, что Шекспир неоднократно, и притом именно в своих сильнейших трагедиях, ставит трагическую страсть, необходимо вытекающую из натуры героя, в резкую противоположность с этой самой натурой. Ревность Отелло, его ни на чем не основанное подозрение объясняется не только известною умственною ограниченностью, но и существенно его открытою, благородною, доверчивою натурой. Чуждый сам всякого притворства, он не видит притворства и в Его. И именно потому, что вспыхнувшая в нем страсть противоположна его натуре, она и может оказывать на нее это страшно разрушительное действие.
То же самое наблюдаем мы и в «Макбете». В этой драме Шекспир поставил себе одну из труднейших задач, за разрешение которых когда-либо брался поэт. До этих пор его трагические герои были такого рода, что каждый из них мог сказать о себе, как сказал впоследствии Лир:
«J am а man, more sinn'd against, tlian sinning», – т.-e. «Я человек, относительно которого грешили больше, чем грешил он сам». К Макбету, цареубийце, похитителю короны, кровожадному тирану, эти слова неприменимы. Как мог Шекспир решиться сделать героем трагедии такую личность, как Макбета? Как удалось ему возбудить к этому герою сочувствие, сострадание зрителя? Изумительно великое искусство, с которым Шекспир, пренебрегая всякими внешними вспомогательными средствами, всякими мелкими ухищрениями, приводит проблему в её простейшую, труднейшую и глубочайшую форму и разрешает в глубине. Он устраняет всякую такую из найденных им в источнике этой трагедии черт, которая могла бы скрасить, отчасти оправдать поступок Макбета, тот роковой поступок, из которого истекают все остальные – убийство Дункана. И это делает он не посредством только умолчания; нет, он ясными словами говорит, что Дункан был самый кроткий, самый справедливый государь который осыпал Макбета почестями, в доказательство своего распоряжения приехал к нему в гости и с полным доверием проводит ночь под его кровлей; он говорит нам очень определительно, что по-видимому все заставляет Макбета с ужасом отступить от его злодеяния, что к этому поступку не влечет его ничто, кроме честолюбия. Это говорит он нам – и притом устами самого Макбета. Макбет сам обвиняет себя перед нами; он ставит трагическую проблему во всей её ужасной ясности – и именно этим дает уже её разрешение. Ибо из того, что Макбет является сам себе обвинителем уже до совершения убийства, что он не делает ничего для оправдания себя перед самим собою, что полный мук и ужаса обнажает он свой кинжал и направляется к спальне Дункана – из этого видим мы, что это не натура холодного убийцы, а жертва сильной страсти, совершенно овладевшей его живою фантазией и рисующей ему мрачные картины, которые страшнее действительности – страсти, держащей его под своими чарами, от которых он старается освободиться посредством своего поступка. И эта страсть, честолюбие, истекающая из справедливого самосознания этой героической натуры, натуры даже истинно царственной, разжигаемая предсказанием ведьм, питаемая влиянием его жены – эта страсть постепенно доходит до крайнего предела и проявляется в таком виде, который резко противоположен его героической натуре и разрушает ее до основания.
Грандиозно и потрясающим образом выражается наивность, которую придал Шекспир своему герою, в словах Макбета после появления тени Банко: