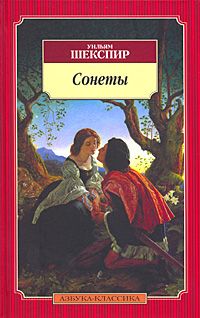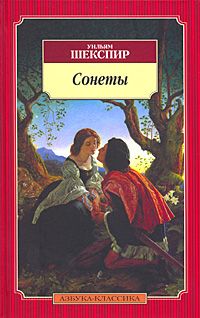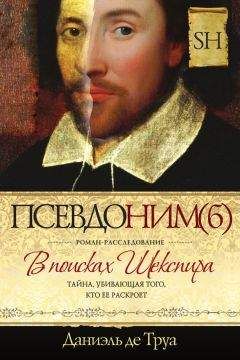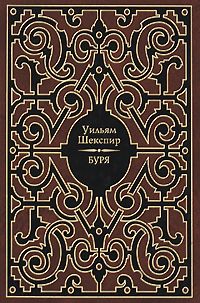Бернгард Бринк - Шекспир, как комический и трагический писатель
Еще более важности, чем вышесказанное, имела для основного характера Шекспировской трагедии привычка тогдашней сцены распространять границы самого драматического действия шире, чем это делали или чем обыкновенно делают другие подражатели древних. Подражатели эти большею частью представляют перед глазами зрителя только кризис действия; а то, что происходило прежде, предполагается, и о нем узнает зритель путем рассказа; англичане же все, принадлежавшее к ходу интриги, обыкновенно включали в само действие.
Недостижимо в этом отношении искусство, с которым Шекспир суживает слишком расплывающийся сюжет – искусство самыми простыми средствами, поочередным введением параллельных мотивов и сцен и подготовительным в надлежащем месте указанием того, что скоро совершится, производить иллюзию, благодаря которой и те части действия, которые обрисованы немногими чертами, выступают перед нами во всей полноте жизни. Двух-трех коротких сцен, внешним образом разъединенных другими сценами, но внутренне находящихся между собою в тесной связи, достаточно, чтобы вызвать иллюзию богатого непрерывного действия. При этом мера времени совершенно произвольная. При изучении этого пункта в произведениях Шекспира, чем новые английские исследователи занимаются особенно охотно, оказывается, что во многих пьесах его, может быть в большинстве, расчет времени двойной. Особенно явственно это обстоятельство в «Короле Лире». Проследив сцены, в которых появляется король, с той минуты, когда Гонерилья в первый раз бесцеремонно обращается с ним, до той ночи, когда он беспокойно бродит по степи, и рассчитав количество протекшего между этими двумя моментами времени, находим, что оно обнимает ограниченное число часов, самое большее – дня два. Но в тот же самый промежуток Корделия во Франции уже успела получить известие о гнусном обращении её сестер с отцом, нашла случай доставить Кенту письмо, даже французские войска уже высадились на английский берег. Но что из этого? Какому зрителю, следящему за судьбой Лира с постоянно возрастающим участием, придет в голову проверять количество времени, которое было бы потребно для совершения всего этого? Богатое содержание того, что мы переживаем в «Лире», совершенно совместимо с представлением, что в это самое время в других местах могло произойти очень многое.
Ни один поэт не умел энергичнее Шекспира эксплуатировать для высших целей своего искусства внешнее устройство сцены, находившейся в его распоряжении, и драматическую традицию, с которою он был связан. Идеальность пространства, характеризующая тогдашнюю английскую сцену и которая имеет своею необходимою параллелью идеальность времени, способность тогдашней драмы вмещать в себе пространное действие во всем его протяжении, давали Шекспиру возможность следовать и в трагедии своему внутреннему побуждению, которое влекло его главным образом к психологической стороне его задачи. они позволяли ему, прослеживая (как он любил это делать) развитие той или другой страсти от её первых проявлений до последней, высшей точки, изображать почву, на которой должна была зародиться страсть; позволяли постепенно раскрывать пред нами тот или другой характер во взаимодействии деятельности и положения этого лица. они делали для него таким образом возможным главный вес в своих трагедиях придавать изображению той связи, которая в очень значительной степени существует между поступками и характером трагического героя, или, что одно и то же, посвящать лучшую часть своей силы и своей работы драматическому развитию своих характеров.
Изучая трагедии Шекспира до «Короля Лира» в их хронологическом порядке, мы видим, как поэт все яснее и яснее сознает, в чем собственно его призвание, его сила, как в мотивировке трагического конфликта он все решительнее кладет центр тяжести в душу своего героя.
Трагедию «Ромео и Юлия» мы уже занимались[1]. В чрезвычайно простом конфликте этой пьесы враждебные друг другу силы внешнего мира и те, которыми обусловливаются действия главных лиц, играют равноправную роль, и трагическая задача не требовала сама по себе никакой особенной подробности в разработке характеристики, хотя и здесь Шекспиром много сделано относительно психологической тонкости.
В «Юлии Цезаре» интерес наш сосредоточивается на идеальной фигуре Брута, этом воплощении мужественного величия мысли, мужественной чести, этом образе, полном чистейшего чувства долга, полном умеренности и самообладания, полном самоотречения, человеке, которому недостает только одного – практического отношения к людям и вещам здешнего мира.
И трагизм его судьбы заключается в том, что именно вследствие высоты своего образа мыслей он подчиняется влиянию более ловких, более проницательных, но нравственно стоящих гораздо ниже его людей; что именно благодаря своему чувству долга он попадает в самое опасное столкновение требований нравственного долга и из самоотречения принимает роковое решение; что добродетель побуждает его стремиться к недостижимой цели, и в преследовании её он употребляет средства, противные его натуре и делающие его виновным, при чем еще они остаются бесплодными. Болезненное чувство испытываем мы, когда видим этого благородного стоика разделяющим обыденное заблуждение всех заговорщиков. Потрясающе звучат в устах Цезаря слова: «Et tu, Brute?» – Брут, сделавшийся убийцею своего благодетеля. И глубоко гнетет нас все яснее становящееся сознание, что это преступление совершено напрасно. Жизнь Брута становится цепью разочарований. Вместо Цезаря империя получает междоусобную войну и новый триумвират – источник новых междоусобных войн и новой тирании. Все безнадежнее становится борьба идеалиста с грубою действительностью. К скорби о последствиях своего поступка, о неудаче своих планов, о гибели республики присоединяются страдания другого рода: его Порция умирает. Но стоик затаил свою боль, преодолевает свое чувство, до последней минуты не покидает того, что признает своим долгом. И когда наконец все кончено, он утешается мыслью, что за всю свою жизнь не нашел человека, который изменил бы ему, и кидается на меч с восклицанием:
………..Цезарь, успокойся!
И в половину я не так охотно
Убил тебя, как самого себя.
Но хотя Брут и главное лицо трагедии, она не даром озаглавлена «Юлий Цезарь». Могущественнее всех действующих лиц этой пьесы оказывается пущенная Цезарем в мир, имеющая его своим представителем, идея; с нею напрасно борются Брут и его друзья, и погибают в этой борьбе. И тем яснее выступает значение этой идеи, как таковой, чем менее соответственно является она воплощенною. Точнее говоря: она воплощена не столько в личности Цезаря, сколько в его положении, его силе, в мнениях, настроении, характере массы. Отсюда важное значение народных сцен в этой трагедии, сцен, которые удивительно характеристичны, и в драматическом отношении в высшей степени оживленны. Пусть и погрешает Шекспир очень сильно против внешней обстановки, даже в некоторых частностях против воззрений, нравов той римской эпохи, – за то все собственно трагическое он передает с величайшею историческою правдой.
В «Гамлете» Шекспир тоже выводит на сцену идеалиста, поставленного в противную его воззрениям среду и видящего пред собою задачу, которая ему не по силам и под тяжестью которой он погибает. И здесь дело идет тоже о цареубийстве. Брут убивает Цезаря, который заменял ему отца, Гамлету предстоит отомстить за смерть своего отца. Оба считают себя призванными снова поставить на надлежащий путь время, которое выбито из своей колеи. Но Бруту его неразрешимая задача представляется возможною; Гамлет чувствует, что задача, на него возложенная и в которой он признает долг, ему не по силам. Брут ошибается в своем предположении о возможности выполнения, точно также, как поступает неправильно в выборе своих средств; Гамлет смотрит на дело теоретически гораздо яснее, но так как у него не хватает силы решиться, то ему не удается также и составить план своих действий. И тот, и другой – натуры глубоко нравственные, с сердцами мягкими и нежными. Брут наделен самообладанием и энергией, которых не достает Гамлету; Гамлет – более глубоким пониманием связи вещей и того, что происходит в его совести – свойствами, которых лишен Брут.
В «Юлии Цезаре» относящийся к времени исторический интерес сохраняет свою силу рядом с интересом общечеловеческим. В «Гамлете» проблема взята в её самом обширном, мировом значении и представлена с неистощимою для всех будущих времен глубиною. Что из пережитого Шекспиром в его прошедшем и переживавшим в настоящем вызвало то настроение, из которого родился «Гамлет», какие моменты дали поэту повод здесь спуститься в тайники своей собственной души еще глубже, чем спускался он до тех пор – это, быть может, останется тайною навеки.