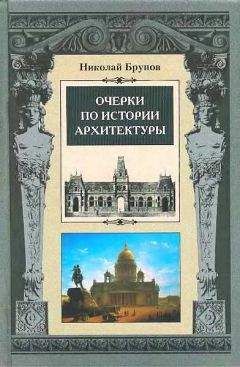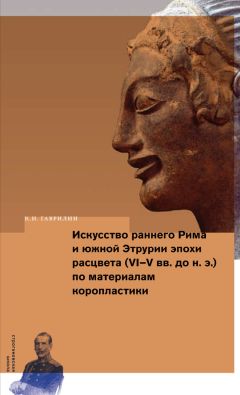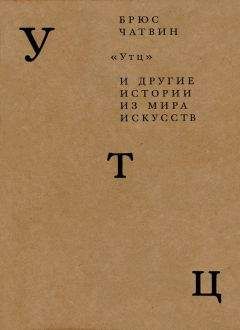Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
От сих пор Вагнер покинул самостоятельные симфонические сочинения, и они остались, по его мысли, только второстепенными элементами его опер — в виде «увертюр» или «вступлений» перед началом оперы, в виде антрактов, в виде инструментальных вставок среди сцен оперы. Но тут произошла та странность, что то, чему Вагнер придавал «второстепенное» значение в своих операх, — вышло именно самым главным, а что он считал «самым главным», то вышло — второстепенным. Произошло же это оттого, что в Вагнере слишком много было рассудочности, придуманности, сочинительства и слишком мало непосредственности, естественного, простого, наивного вдохновения и творчества. Его слишком одолело декадентство, точь-в-точь как Бёклина.
Он по натуре своей был истинный, превосходный, глубоко талантливый симфонист. Способность его к оркестру — поразительная. Правда, он нередко преувеличивает и злоупотребляет средствами этого оркестра, доходит до грубости и оскорбляет слух и чувство своего слушателя, всего более злоупотребляя, иной раз, резкостями и нагромождениями медных и деревянных инструментов. Но все-таки оркестр Вагнера нов, богат, часто ослепителен по колориту, по поэзии и очарованию самых сильных, но также и самых нежных и чувственно-обаятельных красок, — это оркестр, являющийся расширением не только бетховенского, мендельсоновского, мейерберовского, но даже берлиозовского и листовского оркестра. Каких громадных чудес не мог бы еще сотворить Вагнер даже в одной симфонической сфере! Так вот нет же, наперекор природе своей, он не хотел оставаться просто симфонистом, в том же роде, как симфонистом остался весь свой век, напр., хоть бы Бетховен или даже Берлиоз; нет, куда, это было бы слишком просто, слишком естественно. Ему нужно было что-нибудь другое, повыше и пошире — вот он и надумался взять себе в удел — оперу. Что дано было от природы — того ему было не надо; чего не было дано, того-то именно он только и жаждал, то-то и было для него «всего нужней». Роясь в книгах и изучая историю и старину, Вагнер в один прекрасный день додумался до того, что ему надо сделаться Эсхилом наших дней и создать такой музыкальный театр, такие музыкальные театральные представления, которые заменили бы нынешнему европейцу тот театр и те театральные представления, которые радовали и восхищали древнего грека. У меня, как в Греции, театр будет великим праздником и торжеством, мечтал втихомолку про себя и громко объявлял всем Вагнер. У меня мой музыкальный театр будет как у греков: всенародный, всемирный, будет являться экстраординарным событием! У меня, как у греков, представления будут длиться несколько дней сряду. Люди должны будут съезжаться со всех краев страны. Я им сострою новый, небывалый театр, где все будет происходить совершенно иначе, чем в остальном свете. И Вагнер пустился в путь и употребил на то всю жизнь и нашел себе множество могучих покровителей и помощников, множество сочувственников, энтузиастов, прославителей и распространителей. Но все-таки изо всего этого ничуть не вышло того, что Вагнер надумал и что затеял. Не вышло ни музыкального Эсхила, ни эсхиловского театра и музыкальных творений, но вместо того вышел недоделанный, во многом повредивший сам себе, сам себя искусственно исковеркавший Вагнер.
У Вагнера образовалась слава громадная. Успех его и лавры были так колоссальны, что мало на свете можно сыскать такой славы, какая пришлась на его долю. При дружных усилиях фанатиков-помощников и фанатиков-пропагандистов любопытные толпы устремлялись в продолжение нескольких лет в Байрейт и с покорным терпением высиживали там все четыре вечера вагнеровской «тетралогии». Они чуть не с благоговением принимали в себя глубокие, на манер Бёклина и декадентов, откровения о начале мира и существе жизни, о зле и добре, об «искуплении» (над которым еще так смеялся Ницше), посредством деяний Лоэнгрина или Парсифаля, выслушивали рацеи папы и беседы Вотана, рассуждения о погибели старых богов и водворении новых, с влюбленными Зигфридами и Брунгильдами, с такими же Тристанами и Изольдами во главе — и все это высказанное в медных звуках громадных оглушительных оркестров, в лепетании снотворных речитативов и в варварском языке вагнеровских самодельных стихоплетств. Но у большинства постоянно вертелась в голове мысль: «Ах, как тут мало хорошего и как много плохого! Ах, если б Вагнер давал нам все только то, что у него так хорошо, ах, если б он избавил нас от всего, что у него так худо, так невыносимо, так скучно и отталкивательно!..» Да, хорошо так мечтать, хорошо так желать, но для осуществления этого необходимо было бы что? То, чтоб Вагнер от головы до ног переменился, чтоб он забыл об Эсхиле и эсхиловскои славе, о всемирном театре и всемирной опере; но ранее всего надобно было, чтоб Вагнер вовсе отказался от оперы и ни одной оперы не написал бы на своем веку! А возможно ли это? Он что-то другое про себя разумел.
Опера была совсем не его дело, и он к ней не имел никакой способности. У Вагнера не было в натуре ни одного из элементов, которые составляют оперного композитора. У него не было ни малейшего чувства жизни, действительности, он не имел никакого понятия о характерах, натурах, типах, о человеческих личностях и обликах; у него не было никакого постижения души человеческой, ее событий, движений, порывов; у него не было ни потребности, ни способности изображать индивидуальные человеческие личности, каждую в своей отдельности или нескольких вместе, в их взаимодействии. Ему этого вовсе не надо было. Те персонажи, что у него изображены в операх, вовсе не живые люди, а отвлеченные алгебраические знаки, пустые, сухие и ничтожные, наводящие тоску и скуку, но назначенные быть вешалками лирических излияний самого Вагнера. Ко всему лирическому у Вагнера существовала великая нежность, симпатия, он искал всякого случая проявить его в огромных дозах, до утомления, до тошноты у слушателя — а это ли тот драматизм, та объективность, которые суть главные мотивы оперы?
Единственные, кажется, исключения у Вагнера в пользу изображения человеческой личности — это именно лирические, по преимуществу любовные места в его операх. Тут человеческая душа и ее движения вырисовываются в формах иной раз даже интересных, значительных и иногда очень красивых и привлекательных, несмотря на всю его малую способность к созданию мелодий: они всегда у него ординарны и плохи, часто банальны. Таковы, например, монологи Зигфрида в очарованном лесу, Тангейзера и Лоэнгрина повсюду (только, конечно, не банальный, так сильно нравящийся всем невежественным публикам, вычурный и с исковерканными формами романс «Abendstern»); дуэт Зигмунда и Зиглинды, Зигфрида и Брунгильды, с некоторой впрочем дозой — Верди; наконец, песни рыцаря Штольцинга на публичной пробе перед народом и т. д. Но все эти музыкальные произведения — прямо сочинения для концерта, подобно тому, как всегда у итальянцев, и ничуть не для театра, как назначил для «новой» оперы Вагнер. Они для сцены не нужны, а сцена для них — нужна еще менее.
Но когда потребны Вагнеру беседы действующих лиц, их разговоры, сообщения, рассказы — вот где проявляется во всей силе и безутешности вся немощь и неспособность Вагнера к оперному делу. Покуда надо было рассуждать и писать об опере и ее складе, Вагнер был тысячу раз прав во всем том, что говорил, что проповедывал. Никто после Глюка не был столько прав, как он, когда осуждал старинную форму оперы, ее арии, дуэты, терцеты и т. д. Он находил эту форму непозволительной фальшью и условностью. Живые люди не должны «распевать» бесконечные мелодии и кантилены, не должны плодить нескончаемые и, значит, небывалые в натуре рассказы, баллады, повествования — это все условность и выдумка. Так справедливо и разумно рассуждал Вагнер. Но что же после своих рассуждений сам-то он стал делать? В своих операх он все осуждаемое им сохранил, ничуть не уничтожил, и только отвел все это в отдел речитатива. Но к речитативу у Вагнера не было ни малейшей способности, ни тени дарования; речитатив у него неестествен, неуклюж, сух, скучен и невыносим более, чем у кого бы то ни было во всей музыке. И таким-то нездоровым материалом Вагнер наводнил и затопил более чем половину всех своих опер! Один его Вотан в своих беседах и повествованиях способен сделать человека несчастным на всю жизнь.
Какой же после всего этого Вагнер — оперный композитор? Напротив, он всем своим существом представляет личность, которая есть самое яркое, непримиримое противоположение оперной композиторской натуре.
Лучшим доказательством «неоперности», «несценичности», «нетеатральности» созданий Вагнера служит то, что во время путешествий своих по Европе он исполнял в концертах, вне сцены, многие части своих опер, часто с помощью одного оркестра, даром, что эти части сочинены для голосов и оркестра («Валькирии», «Сцена волшебного огня» и т. д.), а после Вагнера это продолжается во всех европейских концертах, да на прибавку исполняются вне театра и сцены из «Парсифаля» — а это именно все самые важнейшие, самые совершенные, самые талантливые и самые поразительные части его созданий.