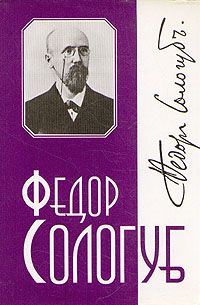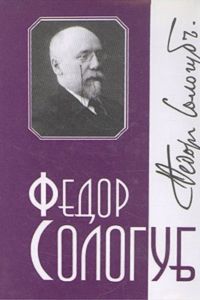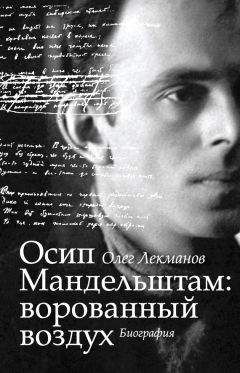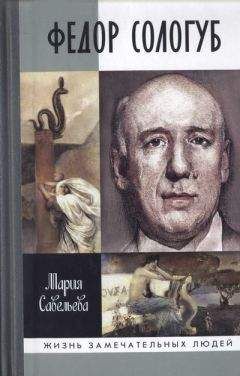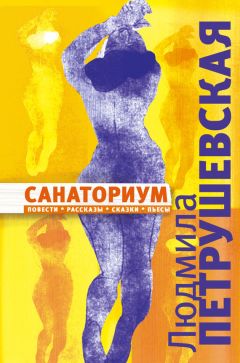Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
В автобиографии «Я сам» Маяковский рассказывает о периоде своего ученичества у символистов. Чужды ему по темам и образам, символисты привлекли поэта «формальной новизной». Поэтому, пишет Маяковский, он «попробовал сам писать так же хорошо, но про другое». В этом желании выражается, собственно говоря, сущность ученичества и одновременно его внутренняя противоречивость: «Оказалось так же про другое — нельзя».
Можно ли вообще говорить о счастливом ученичестве? Если брать не процесс, а результат, он ничтожен. Вместе с тем сам процесс ученичества чрезвычайно важен. Это посвящение художника в мир культуры, в котором он будет отныне существовать. Писатели XIX века не стыдились своего ученичества, не смущались даже прямых заимствований. Лермонтов вводил в свои ученические опыты целые пассажи чужих стихов. Подражательство — школа прохождения через всю толщу созданной культуры к самостоятельному творчеству. Собственно, писатель тем и отличается от неписателя, что он способен успешно пройти через эту толщу. Другие, пишущие в юности стихи, начинают и заканчивают подражаниями. Но «продукт» ученичества с самого начала обречен:
Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;
Душа страдает, жалко ноя;
Теперь ему не до покоя.
Автор этих строк — Гоголь, скрытый за псевдонимом В.Алов. Написанная под сильным влиянием баллад Жуковского и стихов Пушкина, поэма «Ганц Кюхельгартен» была осмеяна современной критикой, и молодой автор скупал ее у книгопродавцев и уничтожал экземпляры поэмы, вводя тем самым в свой жизненный сюжет тему уничтожения, которая столь трагично закончит его. Эта догоголевская поэма была вместе с тем необходима для дальнейшего гоголевского творчества. «Ганц Кюхельгартен» стал как бы точкой отрицания, примером, как не следует писать, негативной основой последующего творчества.
И тем не менее можно найти некоторое родство между тем, что писал Гоголь в юношеской поэме, и его поздним периодом. Взять хотя бы описание двора «разумной хозяйки Берты» из «Ганца Кюхельгартена» и — двора Коробочки из «Мертвых душ»:
…Толпится так же под окном
Гусей ватага длинношейных; так же
Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снегиря…
А вот утро Чичикова у Коробочки:
«Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник, по крайней мере, находившийся перед ним узенький двор весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживался петух мерным шагом, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком…»
В обоих отрывках Гоголь выразил свое художественное пристрастие к бытовым мелочам. Но отчего первая картина двора уныла и безжизненна, тогда как двор Коробочки полон жизни, красок, движения?
Ученичество обещает лишь добросовестность описания: мир называется таким, каким он давно известен. У автора «Ганца Кюхельгартена» торжествует та простота, что хуже (литературного) воровства: воробьи — нахалы, куры — неугомонные, гуси — «длинношейные». Все действия предсказуемы и потому лишены интереса, каждая «тварь» равна самой себе и выполняет только то, что ей положено по природе: воробьи — чирикают; куры — кудахчут. Мир в картине не преображается, а продолжается, тянется, длится и угасает в тоске. Это одномерный мир.
Напротив, «твари» на дворе Коробочки живут непредсказуемой жизнью, принадлежат к многомерному миру. Петух — не только петух, разгуливающий промеж кур; он может в следующую секунду обернуться щеголем, хватом, франтом с соответствующими светскими манерами. То же самое можно сказать о свинье, которая мимоходом съедает цыпленка: это уже не свинья, а целая философия нечаянной жестокости. Во флегматическом преступлении свиньи вдруг вспыхнул и отразился мир совсем не «дворовых» страстей, но, вспыхнув, он не застыл и не утвердился в своем назидательном значении (свинья — тупость — жестокость), а рассыпался и исчез так же быстро, как и возник. Эти переклички различных миров, страстей, ассоциаций и создают подвижную, полную жизни картину преображений действительности. Двор перестает быть хозяйственной мелочью, он вписывается в образ творения как частица единого бытия.
«Спасибо надзирателям — при выходе отобрали, — иронизировал Маяковский над своими ученическими опусами, — а то бы еще напечатал!»
Отсутствие же самокритичной оценки у самого ученика, очевидно, спасительно для будущего художника. Не будь такого временного «затмения», художник не смог бы пробиться сквозь ученичество, устав от него и разуверившись в себе.
Подлинным результатом ученичества является не собрание подражательных произведений, а самое преодоление подражания, то есть переход в иное качество:
Начнем с подражанья. Ведь позже
Придется узнать все равно,
На что мы в сем мире похожи
И что нам от бога дано.
(Д.Самойлов)
* * *
«Молодой стиль» знаменует собою период эстетического самоутверждения писателя, его освобождение от влияния чужого стиля, вызов устоявшимся литературным канонам, бунт и разрыв с учителями. Смиренный, усидчивый ученик вдруг оказывается неблагодарным и самоуверенным «нигилистом», который дерзит учителям, иронизирует над ними, пародирует их метод.
В своих записях Бунин приводит «чьи-то замечательные, — как он пишет, — слова:
„В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков“.
Литературные „убийства“ и „антропофагия“ особенно характерны для периодов решительной переоценки эстетических концепций, авангардистских течений. В начале XX века русские футуристы открыто проповедовали идею литературной расправы с учителями; их отрицание достигало глобальных масштабов. В „Облаке в штанах“ молодой Маяковский решительно перечеркивал всю книжную культуру:
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю „nihil“.
Никогда
Ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!
Если для авангарда характерны нигилистические декларации, то, со своей стороны, эстетика модернизма XX века выдвигает понятие „иррациональной новизны“, которая принципиально недоступна традиционному сознанию. На этот счет читаем в набоковском „Даре“:
„…Всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусство, ремесла, накопившего множество ценностей в области мышления, — быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не Желающего, чтобы они вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темноты, ветхого невежества. Так, розовый плащ тореодорши на картине Мане больше раздражает буржуазного быка, чем если бы он был красным“.
Однако проблема преемственности далеко не всегда решается на путях демонстративного разрыва. Мнение Ю.Тынянова:
„Всякая литературная преемственность есть прежде всего борьба, разрушение старого целого и новая стройка старых элементов“, —
нуждается в уточнении. В истории литературы встречаются многочисленные примеры достаточно мирного, безболезненного вживания молодого писателя в современную ему культуру. Отсутствие открытого разрыва с традицией отнюдь не скрадывает значение нового слова, которое вносит писатель. Достаточно назвать Л.Толстого.
При всем том категория разрыва, выраженного в скрытой или явной форме, в осознанном или неосознанном для писателя виде, является одной из главных характеристик „молодого стиля“.
Показательно отношение молодого Достоевского к Гоголю, рассмотренное Ю.Тыняновым с точки зрения „теории пародии“.
Сложность проблемы преодоления чужого стиля заключается в том, что „борьба“ ведется не с эстетическим оппонентом, а зачастую с любимым и близким по духу писателем (Достоевский и Гоголь; Пушкин и Байрон; Блок и Вл. Соловьев; Пастернак и Андрей Белый и т. д.). Каким бы болезненным и нравственно сложным ни был этот разрыв, отход молодого писателя от любимого образца является непременным условием его творческого развития.