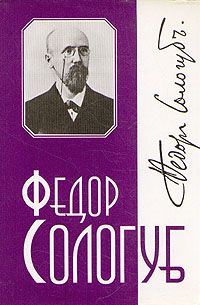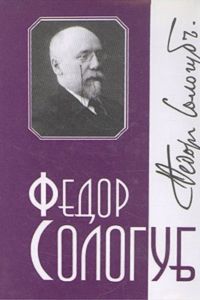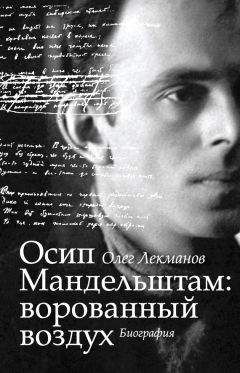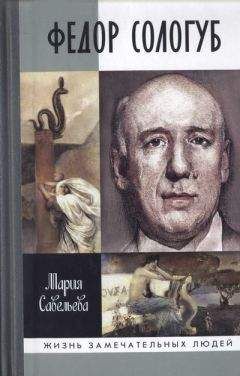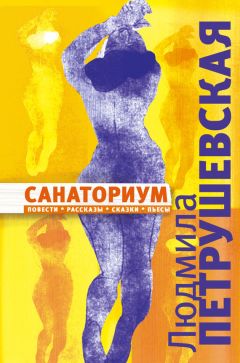Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
В самом деле, обидная, унизительная роль. Прожить яркую, необычную жизнь, чтобы на склоне лет оказаться лишь «дядей». А ведь биография Гари действительно поразительна.
«У меня нет ни капли французской крови, — писал Гари, — но в моих жилах течет кровь Франции».
Гари — выходец из России. Он родился в Литве в 1914 году. Его мать играла в московском театре. Может, она и не была выдающейся актрисой, но она была замечательной матерью, чей образ с большой нежностью Гари воссоздал в автобиографической книге «Обещание зари». Гари, особенно под конец жизни, сильно удручало отсутствие нежности в современном мире. Для него нежность была идеалом женственности, он мечтал, например, «феминизировать» мир.
В 1921 году мать с сыном покинули Россию. Мать Гари оказалась предприимчивой женщиной, открыла дом моды в Варшаве, затем в Ницце, не раз «прогорала», но никогда не сдавалась. Она верила в счастливую звезду своего сына и, несмотря на то что мальчик рос истинным бастардом — без отца и без родины, — была уверена в невозможном: «Ты станешь французским писателем, послом Франции, получишь орден Почетного легиона».
Все так, по ее «щучьему» желанию, и вышло, но не вдруг. Судьба бросала Гари из страны в страну. Он учился в университетах Варшавы и Парижа; когда началась вторая мировая война, очутился в Англии, в рядах вооруженных сил «Свободной Франции»; капитаном эскадрильи участвовал в воздушных сражениях за Англию, позднее воевал в Африке и Нормандии. Сбылась материнская мечта: Гари был награжден орденом Почетного легиона.
Вторая ее мечта начала осуществляться после 1945 года, когда Гари, соратник де Голля, получил уникальную для иммигранта возможность поступить на дипломатическую службу. Он объездил полмира, подолгу работал в Софии, Берне, Боливии. Был Генеральным консулом в Лос-Анджелесе, где благодаря своему посту познакомился со звездами, включая Мерилин Монро, и кинотайнами Голливуда.
Бывший военный летчик стал дипломатом и писателем почти одновременно и среди возможных путей выбрал путь, как он сам говорил, «писателя XX века», тяготеющего, по разумению Гари, антипода Набокова и иже с ним, к общественно-интеллектуальным проблемам, поскольку
«еще никогда в истории интеллектуальное, идеологическое, моральное и духовное бесчестие не было таким циничным, грязным и таким кровавым»,
как в наши дни.
Выход из «бесчестия» Гари все более и более четко искал в толерантной модели либерализма, утверждая:
«Я хорошо себя знаю социологически: я либеральный буржуа с гуманистическими и гуманитарными наклонностями… я никогда не изменюсь, и речь всегда идет обо мне, когда крайне правые или крайне левые говорят о „блеющем идеализме“ или „блеющем гуманизме“».
Раздумывая о смысле жизни, Камю в «Мифе о Сизифе» пришел к заключению, что для атеистического сознания выход за пределы своего «я» наилучшим образом может осуществить художник. Быть художником, актером — значит жить многократно. Гари разделял подобный пафос. Он любил жизнь во множестве ее проявлений. Не будучи метафизиком, он искал расширения своего жизненного опыта в разнообразии.
«Моего „я“ мне не хватает, — говорил Гари. — Когда я провожу несколько недель, скажем, в Куала Лумпуре, живя в каком-нибудь закоулке среди малайцев и китайцев, мое „я“ становится разнообразным, а если делать это пять — шесть раз в году, возникает творческое разнообразие, прожитой Роман… Когда я слишком долго остаюсь самим собой, мне становится тесно, меня душит мое „я“».
Удивительно ли, что с таким представлением о творчестве, связанным с многократными перевоплощениями, Ромен Гари в один прекрасный день отправился не в Куала Лумпур, а в куда более рискованное путешествие, в страну литературной мистификации?
Многолетнее перевоплощение в Эмиля Ажара дало писателю бесценный опыт и привело к выводам, которых он явно не предвидел. Говоря о своем детище в посмертно опубликованной статье, Гари не скрывает не только радости по поводу удачи мистификации, но и большого испуга.
Ажар — это, конечно, торжество писателя над снобизмом парижской критики. Сбитая с толку, так и не раскрывшая мистификации, критика должна была бы объявить о своем профессиональном банкротстве. Оказалось, что, несмотря на бурное развитие литературно-критической мысли, в конце XX века возможно повторить опыт Макферсона, создателя мифического барда Оссиана и «его» поэзии, покорившей Европу в XVIII веке.
Триумф Гари в том, что ему удалось стать новым писателем, лишь отчасти похожим на него самого, на склоне лет заново начать литературную карьеру. Могла ли мать юного Гари даже в самой дерзостной мечте представить себе, что ее сын станет двумя французскими писателями, двумя лауреатами Гонкуровской премии? (Она присуждается писателю только один раз в жизни.)
Объясняя причины обращения к псевдониму, Гари писал:
«Я устал от образа Ромена Гари, раз и навсегда навязанного мне критиками еще тридцать лет назад… Тридцать лет! На меня „напялили личину“. Не исключено, что невольно я и сам под нее подстраивался. Так проще: образ создан, и остается только вписываться в него. Это избавляет от необходимости выкладываться. Основную роль сыграла тоска по молодости, по первой книге, острое желание начать все сызнова».[74]
Мистификация — мистическое измерение литературного творчества, затрагивающее не столько проблему партикулярного имени, сколько глобальную тему авторства. Партикулярное имя художника, по сути дела, случайно и несущественно, однако, включенное в проект творчества, оно подвергается неожиданным перегрузкам.
Псевдоним, с какими бы целями он ни создавался, чем бы ни объяснялся, политической конспирацией или просто игрой, расплющивает своего хозяина и выворачивает энергию творчества против него с какой-то на редкость последовательной яростью. Козьма Прутков — это монстр по сравнению с тремя милыми, пожелавшими похохмить, скрывшимися за вымышленным именем литераторами. Ленин — это Ульянов в десятой, если не в сотой, степени, уже не человек, а трансцендентная летающая тарелка, не отвечающая за свои действия, отвязанная, без руля и ветрил. Подлог подписи созвучен преодолению скорости звука.
Даже в маскараде есть свой метафизический выверт. Нельзя одеться цыганкой или Арлекином, не провалившись хотя бы на миг в какую-то онтологическую дыру. В литературной мистификации этот провал обеспечен всей ценностью творческого акта.[75]
Тревоги, связанные с мистификацией, начались для Гари после того, как критика стала догадываться, что за маской псевдонима скрывается какое-то крупное литературное имя. Гари был оттеснен в сторону, и тогда, чтобы вернуть себе право владеть Ажаром, он предложил своему племяннику сыграть роль. В результате, однако, произошло еще большее отторжение:
«Меня изгнали из моих владений. В созданном мною мираже поселился другой. Материализовавшись, Ажар положил конец моему призрачному существованию в нем. Превратность судьбы: моя же мечта обернулась против меня».
Гари стал мучиться тем, что
«Поль Павлович пришелся моему герою точно впору. Его весьма „ажаровский“ облик, его лукавство, темперамент преуспели в том, чтобы вопреки всякой очевидности отвлечь внимание от моей персоны и убедить всех в реальности Ажара — Павловича».
Не обошлось и без болезненных недоразумений с племянником, обостренных подозрительностью обиженного автора:
«Например, когда Поль Павлович потребовал от меня рукописи, чтобы не быть всецело в моей власти, а я дал ему лишь первоначальные наброски, да и то после того, как снял с них фотокопии, чтобы в свою очередь не оказаться в его руках».
Гуманист, воюющий с племянником, подпоручиком Киже, при помощи фотокопий — апофеоз этой славной мистификации.
Гари многие годы задумывал создать «сверхроман», в котором «автор и герой — единое целое». «Жизнь впереди» стала именно такой книгой.
Над «сверхроманом» витает дух Виктора Гюго, автора «Отверженных». Недаром это имя неоднократно возникает на страницах книги как имя доброго бога, способного помочь людям в крайней ситуации. А как раз в такой ситуации находятся герои книги, только это не пограничность экзистенциального романа, а предельность романтической эстетики. В самом деле, здесь все заострено. Взяты предельные степени общественного отчуждения, обнаруженные в жизни парижских иммигрантов, выходцев из стран Ближнего Востока и верной Африки. Взяты предельные национальные антагонизмы: взаимоотношения арабов и евреев. Взяты предельные возрастные категории: главными героями книги являются старуха Роза и малыш Момо. А вот уже запредельность судьбы: мадам Роза — бывшая проститутка, «боровшаяся за жизнь» в бордельных кварталах Монмартра; она же — бывшая узница Освенцима. Короче, дикий ужас социального и национального отчуждения. Более того, мадам Роза находится на грани безумия, а затем переходит и эту грань, открывая какие-то новые, жуткие и одновременно трогательные стороны жизни и своего характера, и об этой функции безумия свидетельствует эпиграф к книге: