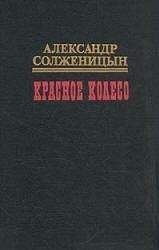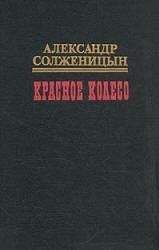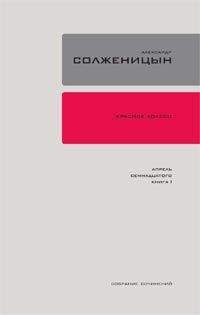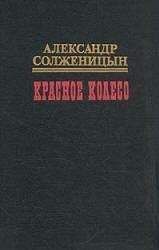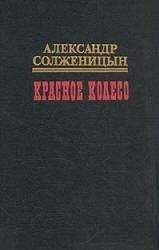Андрей Немзер - «Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения
63
Ср. также открывающие собственно текст «Апреля…» два документа – тайные письма британских политиков (от 24 и 31 марта), в которых ставится крест на возможности отъезда императорской фамилии в Англию. Царская семья уже предана – брошена союзными родственниками на произвол судьбы (революции).
64
Батальон поднимает (не имея на то никаких полномочий от ИК, членом которого он – вопреки мнению сослуживцев – не является) чудаковатый и восторженный путаник вольноопределяющийся Фёдор Линде. Поднимает «по святому наитию, импульсом великой Интуиции, которая бывает выше самой стройной Логики», заворожив нескольких «рассудочных» батальонных комитетчиков и после долгих прений выцарапав решение выступать с перевесом в два голоса (50). Откровенно комический персонаж оказывается зачинщиком апрельского противостояния толп (и большевистской стрельбы, возвещающей приближение гражданской войны). Он проигрывает эту «битву», но делает политическую карьеру, которая страшно обрывается через четыре месяца, 25 августа: «На ЮЗФ (Юго-Западном фронте. – А. Н.) комиссар Ф. Линде убит разъярёнными солдатами» – пишет Солженицын в конспекте «Августа Семнадцатого». Напомню, что гибель Линде, пытавшегося разагитировать взбунтовавшихся солдат, в зловеще гротескном ключе изображена в пятой части «Доктора Живаго» и играет важную роль в дальнейшем сюжетном и смысловом движении романа Пастернака (там этот исторический персонаж носит фамилию Гинц).
65
Да и изначальный компромисс с самозваным Советом (впрочем, легитимность Думского комитета тоже куда как проблематична), порождением которого стала трясина двоевластия, погубившая как Россию, так и всех деятелей Февраля, был – при всех явленных на переговорах тактических ухищрениях – делом Милюкова.
66
То, что Милюкова изничтожают его ученики, прямо проговорено в еще «предкризисной» главе о мечтательно конструирующем «единое социалистическое правительство, от трудовиков до большевиков» Чернове, который недавно разъяснил в газетной статье, как «не надо пугаться чрезмерностей Ленина», а теперь выносит приговор «изгадившему» ноту министру иностранных дел: «А Милюкова, конечно, убрать, переместить» (67). Как и будет позднее предлагать Львов. Некоторое – смешанное с неприязнью – почтение к мэтру «культурные» социалисты совсем изжить пока еще не могут. Да и страх принять на себя всю ответственность за страну, тот страх, что будет терзать левые партии вплоть до октябрьского переворота, свое берет.
67
То, что в последней главе «Апреля…» мы застаем Воротынцева на том самом могилевском Валу, где он беседовал с Нечволодовым, заметить нетрудно, тем более что автор сам напоминает о разговоре из «Октября Шестнадцатого»: «Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция уже пришла! <…> Тогда – не хотелось поверить» (186). Укажу еще одну значимую параллель к этому эпизоду. Нечволодов втолковывает Воротынцеву: «Россией по внешности управляет ещё как будто Государь. А на самом деле давно уже – левая саранча» (О-16: 68). В «Апреле…» профессиональный революционер Ободовский говорит жене: «Самое страшное, Нуся, даже не эти социалисты из Исполнительного Комитета. Они – саранча, да. Но за эти два месяца – и весь наш рабочий класс… И весь народ наш… показал себя тоже саранчой» (114).
68
Антагонизм Андозерской и Милюкова обозначен как сюжетно, так и ее прямыми аттестациями кадетского лидера. Воротынцев впервые видит Ольду у Шингарёва, куда пришел, чтобы познакомиться с ведущими кадетами. Гости Шингарёва ждут Милюкова, который в тот вечер так и не появляется. Как – тоже вопреки ожиданиям гостей Шингарёва – не начинается в тот вечер революция (О-16: 20–26). Андозерская буквально оттесняет Милюкова от Воротынцева. Как и Гучкова, для встречи с которым Воротынцев приехал в Петроград. Диалог о кадетском лидере («Скажи, а Милюков – действительно крупный историк? – Да какой там, – недовольно отвечала Ольда») близко соседствует с промелькнувшей мыслью Воротынцева: «…все эти счастливые (проведенные с Ольдой. – А. Н.) дни уже попали в новый месяц. А Гучкова – упустил» (О-16: 29). Не только Воротынцев, но и читатель воспринимает знаменитую думскую первоноябрьскую речь Милюкова о «глупости или измене» правительства (О-16: 65’), будучи подготовлен противомилюковскими суждениями Андозерской. Заключающее эту главу авторское утверждение: «Но если под основание трона вмесили глину измены, а молния не ударяет, – то трон уже и поплыл» (О-16: 65') естественно соотносится с запомнившимися Воротынцеву словами Ольды: «Трон – только тронь» (О-16: 28). Заставляя нас увидеть первомайскую демонстрацию в Петрограде глазами как Милюкова, так и Андозерской (получаем мы неожиданно схожие картины), Солженицын еще раз напоминает о заочном споре этих персонажей, актуализирует «предсказывающие» эпизоды предшествующих «Апрелю…» Узлов.
69
Под проборматывание этой дамой стихов Волошина идет весь эпизод ожидания. При этом пламенная революционерка не понимает, сколь далека ее жажда возмездия от ужаса, владеющего поэтом. В финале «Ангела Мщенья» читаем: «Не сеятель сберет колючий колос сева. / Принявший меч погибнет от меча. / Кто раз испил хмельной отравы гнева, / Тот станет палачом иль жертвой палача» (Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 215). Нечто подобное и открывается Сусанне (женщине из, условно говоря, «кадетского» круга) на первомайской демонстрации. Отметим, что, как и петроградский, московский революционный праздник ассоциативно связан с вечером у Шингарёва.
70
Напомню, что швейцарские карнавалы вызывают пароксизм ярости у Ленина, верно видящего их «буржуазную» суть (М-17: 338).
71
В отличие от социалистов, Андозерская быстро понимает, каково истинное значение Ленина. «Всё было до того карикатурно-мерзко, что когда вдруг появился Ленин и с балкона Кшесинской засвистел Соловьём-разбойником, этим свистом срывая фиговые листочки и с самого Исполнительного Комитета, – так хоть дохнуло чем-то грозно-настоящим: это, по крайней мере, не была карикатура, и не ползанье на брюхе. Это был – нескрываемо обнажённый кинжал. Ленин каждую мысль прямолинейно вёл на смерть России. <…> Нет, карикатурен был не Ленин, а сам Исполнительный Комитет: против Ленина он предлагал бороться только словом» (39). Но в мире, где слова девальвированы и опошлены (всеми говорунами – от Родзянко до Керенского), а понятия о праве грубо нарушены, публицистика, как и юриспруденция, утрачивают всякий смысл. Что и демонстрируют Ленин и Козловский на шутовской репетиции судебного заседания по делу о захвате большевиками особняка Кшесинской. От изощренной игры словами и прежними юридическими нормами Козловский переходит к пародированию традиционной процедуры, а от него – к отрицанию самого суда как такового: «В разгар революции – кто думает о законности (известно кто – наслаждающийся ролью министра юстиции, грозного революционного прокурора, Керенский. – А. Н.), когда сама революция по существовавшим к тому моменту законам является беззаконием, караемым смертной казнью? Революция и закон – понятия несовместимые! Да ваш сегодняшний суд, восприявший свою власть от Временного правительства, тоже являлся судом беззаконным, если в духе законов царского времени! Да по тому старому закону и само Временное правительство подлежит виселице!!» (168). Вся главка оркестрирована знаменитым ленинским смехом, почти непременной «деталью» многочисленных образчиков «ленинианы», с помощью которой происходило «очеловечивание» основателя коммунистической партии и советского государства. У Солженицына победительно-циничный смех Ленина – знак бесчеловечности и презрения к любым «смыслам». Противники (да и сторонники) Ленина изумляются нелогичности его писаний и выступлений, в которых соседствуют противоречащие друг другу тезисы. Изумляются легкости, с которой Ленин меняет лозунги. Но это не промахи, а «открытия» вождя большевиков, убежденного, что нахрап и апелляция к инстинктам сильнее способности суждения и памяти. «Как всегда: сила у того, кто нарушает общепринятые правила» (183). Даже ораторское мастерство и организаторские навыки тут менее значимы – Троцкий, который захвату власти послужит словом и делом больше, чем Ленин, принужден будет довольствоваться ролью «второго» (пока и ее не отнимет у него – сперва во власти, потом и в переписанной надлежащим образом «истории» – настоящий ленинец, Сталин). Сила Ленина (тут ему и Троцкий уступает) – в той самой таранной однолинейности, в той самой оторванности от реальности, которая кажется смешной. Это понимает умная Андозерская, увидев и услышав «Соловья-разбойника» въяве: «разочаровывающе мелкая фигура, картавость, безцветный, крикливый голос, – но ведь и Марат был не краше, а мысли на самом деле уже тем сильны, что за пределами повседневного разума, что предлагают опрокидывать и самое незыблемое» (39). Пройдет время, и ленинская «прямота», властность, жестокость много кому покажутся залогом спасения от засилья слов и разлива народоправства, гарантией установления хоть какого-то порядка. Этот мощный соблазн в гражданскую войну (да и позднее) станет вторым важнейшим оружием большевиков, вторым – после их абсолютной (нескрываемой) безжалостности, замешанной на презрении к человеку и человечности.