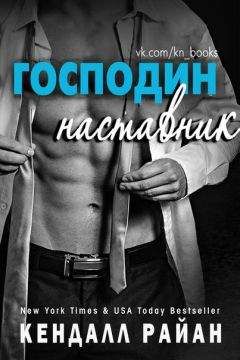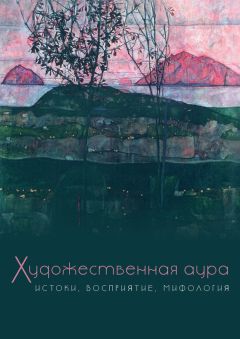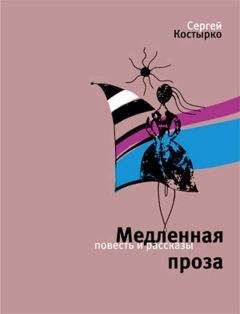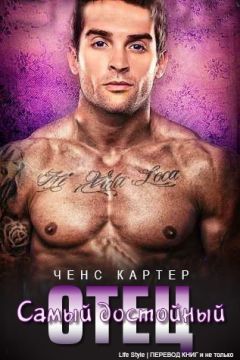Сергей Костырко - Простодушное чтение
Но чем больше свободы, тем больше требуется самодисциплины. Вот место, которое, на мой взгляд, оказалось скользким для некоторых обозревателей «Сегодня». Они слишком обрадовались тому, что теперь можно быть публично умными, публично образованными, талантливыми, оригинальными, раскованными. И эта свобода в какой-то момент начала становиться для них самоценной. Только так я могу объяснить чрезмерное увлечение обозревателей «Сегодня» терминологией, прихотливостью изложения, интеллектуальной игрой. Или такую, например, загадочную для меня особенность текстов талантливого Кузьминского, у которого обаятельная раскованность может вдруг обернуться размашистой (если не сказать больше) категоричностью: «скурвились на кольцевых линиях метро», «клинический идиот» – это все о реально существующих людях, коллегах… Оказалось, что в стремлении критиков к предельной открытости перед читателем можно прийти и к противоположному – недемократичности и почти тусовочной закрытости иных текстов.
Вот этот недостаток и был в первую очередь замечен оппонентами газеты, поставившими телегу впереди лошади. Благо примеров оказалось предостаточно. Разборы отдельных пассажей Кузьминского или Курицына, скажем, в статье Ермолина, на мой взгляд, точны убийственно.
В общем, ошибок и просчетов у «сегодняшней» полосы «Искусство» столько, что и половина их способна погубить любую газету. Но несмотря ни на что, именно эта полоса «Сегодня» остается самой читаемой и, соответственно, – одной из самых влиятельных в литературном мире. «Малозаметные критики» – назвал обозревателей «Сегодня» Ермолин и даже как бы засомневался, а стоит ли вообще о них писать. И все-таки написал огромную горячую статью, демонстрирующую живейшую заинтересованность, даже пристальность регулярного чтения этой газеты. «Микроорганизмы», попробовал отмахнуться от критиков «Сегодня» Быков, но и его снисходительного высокомерия хватило на полосную статью в «ЛГ», и если судить по темпераменту, с которым она написана, если судить по некоторой, для куртуазного маньериста удивительной даже, крепости выражений, то нельзя не отметить, что фактом существования этих «микроорганизмов» он задет не на шутку.
Ну и что же – неужели все они, критики из «Сегодня», такие невозможно яркие, значительные? Нет, разумеется. Дело в ситуации, которая складывается в литературе и в критике и которую первой уловила как раз эта газета, предложившая новый тип общения и с читателем, и с культурой. И попала в точку.
Теперь время перейти к самому типу критика, представленному газетой. Возьмем для этого конкретную фигуру. Какую? Увы. К сожалению, ответ на этот вопрос предопределен. Андрея Немзера. Почему «к сожалению» – об этом позже.
А пока мне хотелось бы договориться с читателем вот о чем. Я не собираюсь писать портрет критика Немзера – мы говорим здесь о критике, а не о критиках. Мне бы хотелось обратиться к нему как к некой знаковой фигуре. Как к некой модели литературного поведения. Понимаю, что такое условие несколько щекотливо. Но что делать: выбрав публичную форму существования, имярек обречен принимать и все блага, и все тяготы ее. К тому ж у меня есть предшественник – Павел Басинский, литературно-критическими средствами создавший художественное произведение «Человек с ружьем» и назвавший героя Немзером. Будем считать, что я продолжаю уже возникший жанр.
Итак, «феномен Немзера» – в чем он?
Абсолютно согласно и друзья, и недруги признают Немзера одним из заметных явлений нашей критики.
И одновременно ни одна фигура не вызывает столько раздражения. Им недовольно – тут я вряд ли ошибусь – подавляющее большинство коллег по цеху (оговорюсь, что к большинству этому не принадлежу). Не любят критика и те, кого он задел в своих текстах, и те, кого он вообще никогда не замечал, и те, у кого таких претензий быть не может. Удивительна эта повсеместная нелюбовь. Чем она вызвана?
Ермолин обвиняет Немзера в излишней бесстрастности: автор «дежурно-равнодушных откликов». Исключение, на его взгляд, составили только рецензия на повесть Рошаля и малопонятная перепалка с неким Коноваловым, в которой «Немзер впервые по-настоящему азартно вступил в полемику» «за многие месяцы и даже годы литературно-критической деятельности». Но спустя некоторое время появляется статья Басинского, предъявившего критику обвинения в нетерпимости, неистовстве, а в случае с рецензированием повести Варламова – чуть ли не в садистском сладострастии, с которым он разделывается с неугодными.
Упрек в архаичности морализма Немзера, в отсутствии «духовных нажитков» Ермолин подкрепляет вот таким размышлением:...«Иногда кажется, что критик мировоззренчески прошел мимо почти всего XX века… – до такой степени «старорежимны» его крайне неопределенный гуманизм, его степенный оптимизм, его полнейшая душевная безмятежность и благородство намерений а la Степан Верховенский».
Как это сочетается с утверждениями того же Ермолина, что в компании «интеллектуальных босяков», «богемно-столичных» спесивцев и принципиальных аморалистов Немзер «играет первую скрипку»? И как совместить ермолинский образ бесстрастного, безмятежного критика с образом «человека с ружьем», нарисованным Басинским?
У Немзера нет концепции, утверждают и Ермолин, и Басинский. Оценки его зависят от весьма прихотливо меняющихся симпатий и антипатий, они «комильфотны», по определению Быкова. С этим можно было бы согласиться или поспорить, если бы недоброжелатели Немзера потрудились прочесть его большие, как раз концептуальные для критика, статьи 1992–1993 годов в «Дружбе народов» и «Новом мире». Тогда, возможно, разговор бы пошел о другом – о том, насколько последовательно критик реализует свои же принципы. А из газетных, часто по необходимости отрывочных, заметок вычленить концепцию действительно бывает трудно.
Наверно, можно вспомнить еще какие-то обвинения. Но основные я перечислил. И ни один из этих недостатков, на мой взгляд, не объясняет такую стойкую неприязнь к Немзеру. И тут, видимо, прав Басинский, заметивший, что Немзера просто не любят. Нелюбовь здесь – причина, а не следствие.
И поэтому настороженность вызывают даже те его черты, которые, будь они явлены другим, вызвали бы восхищение. Скажем, работоспособность. Уже в ней самой чудится какая-то чуждость. Басинский даже вспомнил про Обломова и Штольца:
...«Неутомимость и педантизм Немзера потрясают воображение – они представляются почти фантастическими расхлябанной славянской натуре. Он настоящий Штольц в русской критике».
Момент существенный для нашего разговора. Забавно, что никому не кажется фантастическим поток людей, ежедневно с шести до половины восьмого утра текущий к метро и автобусным остановкам, – люди едут на работу. И работают там по семь-восемь часов. И ничего. Штольца никто не поминает. А теперь представьте выработку критика, сумевшего бы вот так организовать свою работу. Да еще в нашей «тошнотворной реальности», когда все, что ты смог написать, можно напечатать. Сколько тогда Немзеров появится в критике?
Нет, скажут, то – механический труд, а мы – о творчестве. Литературная работа имеет свою специфику. Да, имеет. Я, например, знаю литераторов, находящихся в достаточно почтенном возрасте и до сих пор обремененных службой, иногда на редкость тяжелой и изматывающей, но при этом выдающих свои две страницы нового текста каждый день несмотря ни на что – ни на самочувствие, ни на погоду за окном – политическую, экономическую, геомагнитную и проч. Просто в детстве и отрочестве они успели перенять выучку работников и плотность своей работы считают нормой.
Похоже, дело не в нашем менталитете национально-«обломовском». А в нашем, простите, советском. Доставшемся от прежней эпохи, которая культивировала определенный дилетантизм в работе литератора. Больше одной-двух статей да пяти рецензий в год и писать было бессмысленно. Не напечатают. Да еще подождать нужно было два-три месяца, прежде чем уже принятый материал сдвинется с места. Много и регулярно могла печататься разве только идеологическая обслуга. Может, потому еще таким событием было каждое появление статьи Дедкова, Виноградова, Рассадина, Золотусского и других. К тому же было у них время и мыслей накопить, и начитать материал как следует, и момент выбрать, когда ты на подъеме сил. Но окажись критики той поры в условиях дисциплины нынешней обозревательской работы (когда писать нужно каждодневно, невзирая ни на степень «накопленности», ни на «настрой», и появляться перед читателем с двумя-тремя материалами еженедельно) – смогли бы они сохранить имидж властителя дум? Или пришлось бы менять его на не в пример менее импозантный имидж Работника, Газетного Обозревателя? Кстати, откройте как-нибудь на досуге Белинского, и не черный трехтомник, а академическое собрание, почитайте подряд его журнальную «мелочь». Вы обязательно почувствуете, как пахнёт на вас «сегодняшним».