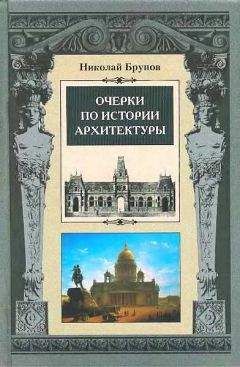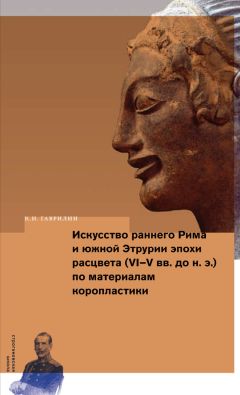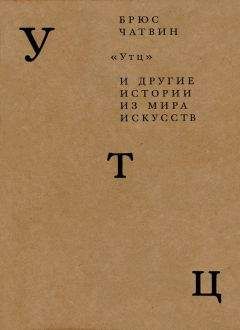Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
Другая великая заслуга Берлиоза — расширение средств и органов искусства. Рожденный с необычайным чувством музыкального колорита, он громадно развил его на изучении оркестра Бетховена и Вебера (отчасти и Мендельсона, веберова наследника и последователя). Он создал новейший европейский оркестр, громадный по размерам, громадный по силе, изумительный по красоте и полноте состава, небывалый по тончайшим, эфирным, поэтическим краскам — оркестр Листа и Вагнера. Мейербер еще раньше этих двух последних, раньше всех других был безмерно обязан Берлиозу: конечно, не будь Берлиоза, никогда он не представил бы миру свои великие драматические и исторические оперные картины в том чудном убранстве красок, которое дает им такой великий блеск и обаяние.
У Берлиоза было два товарища по искусству в Париже: Шопен и Лист. Все вместе они были люди различных национальностей: француз, поляк и венгерец, но все трое были люди гениального склада, все трое были молоды и страстно влюблены в свое искусство — и потому сошлись среди пламенной, кипучей, несущейся вихрем романтической Франции 30-х годов. Натуры их были совершенно разные, но они этого еще не понимали тогда и составляли могучий союз для борьбы со всем устарелым, традиционным, наследственным. Их деятельность была громадно плодовита, дала великие результаты, и лишь гораздо позже они разошлись в разные стороны, вследствие ярко обозначавшихся особенностей своих натур.
Всего менее было сходства и родства между Берлиозом и Шопеном. Берлиозу была совершенно чужда идея национальности. Он был идеалист и космополит в музыке и ни единого такта не написал на своем веку, который можно было бы назвать специально французским. Шопен, напротив, представлял такое яркое самостоятельное и высокоталантливое проявление национальности, какого (кроме Вебера) нельзя было представить до него в музыке. Шопен приехал в Париж 20-летним юношей, но уже вполне определившимся и сформировавшимся в своей натуре, и никакие посторонние влияния людей и событий ничего уже никогда не изменили в его коренном складе. Долгая жизнь в Париже много ему прибавила (еще бы! он постоянно находился в Париже в среде великих и разнообразных талантов того времени, литературных, художественных, научных, музыкальных), многое в нем широко развила, но никогда ничего не попортила. Могучая нота польской национальности, ненасытная страстная привязанность к своему отечеству никогда не иссякали в нем и провели величавую, глубокую черту в его созданиях. Берлиоз, напротив, никогда ничего не понимал в судьбах своего отечества и не принимал никакого в них участия, так что мог сердечно прославлять обоих Наполеонов: и I и III. Берлиоз знал все музыкальные инструменты и гениально умел распоряжаться ими, как великий живописец-колорист красками своей палитры. Он игнорировал одно только фортепиано (иначе как инструмент среди всех других в оркестре), и никогда ничего не написал для него. Шопен, напротив, знал всего только один инструмент из числа всех существующих на свете — фортепиано, и игнорировал все другие (даже его любимый инструмент, виолончель, служил у него только аккомпанементом в его дуэтах, как весь остальной оркестр-в его „концертах“ и проч.). Берлиоз имел всегдашнюю претензию на задачи громадные, широкие, иногда безбрежные, Шопен, напротив, — никогда. Он, повидимому, как будто довольствовался задачами и формами только маленькими, миниатюрными, на вид даже как будто все только салонными. Берлиоз сочинял и симфонии, и кантаты, и оратории, и громадные хоры, и „Реквиемы“, и „Те Деумы“, — Шопен все только полонезы, мазурки, вальсы, ноктюрны, прелюдии, impromptus, наконец, — сонаты, и никогда не сочинил ни одной симфонии. Шопен был солист и виртуоз, Берлиоз — никогда ни на чем не играл, кроме гитары и чекана. Шопен провел всю жизнь в давании уроков (преимущественно дамам-аристократкам), Берлиоз никогда никого ничему не учил.
Таковы были громадные черты несходства между Берлиозом и Шопеном и, однакож, было у них также и несколько черт сходства друг с другом. Оба были реформаторы в своем деле: оба совершенно изменили физиономию, характер, существо и средства того органа, который служил им для выражения их настроений, чувства и мыслей. Берлиоз создал новый оркестр, Шопен — новое фортепиано. В фортепианном техническом деле для Шопена точкой отправления служил всего более Гуммель и Вебер, но Шопен скоро оставил обоих далеко позади себя и водворил на страницах фортепианных композиций новый мир, такой широкий и глубокий, какого прежде не было еще в музыке. Шопен был поэт индивидуалист и лирик: внутренний мир, с разнообразными, то мирными, тихими и грандиозными, то взволнованными, бурными и трагическими событиями, стал являться у него в формах чудной поэзии, прелести и красоты. Не взирая на свои кажущиеся, миниатюрные и ограниченные формы, его прелюдии, ноктюрны, этюды, мазурки, полонезы, impromptus полны великого и глубочайшего содержания, и все они, кроме разве немногих, редких исключений, столько же принадлежат к области музыки „программной“, как и его великолепные баллады (программность которых заявлена автором посредством самого заглавия). В „программности“ 2-й сонаты Шопена (B-moll) не сомневаются даже самые упорные враги „программной музыки“. Знаменитый в целом мире „похоронный марш“ этой сонаты, совершенно единственный в своем роде, явно изображает шествие целого народа, убитого горем, при трагическом перезвоне колоколов; быть может, еще более необычайный по своей гениальности, самостоятельности и новизне финал этой сонаты-точно так же изображает, совершенно явно для каждого человека, безотрадный свист и вой ветра над могилой погребенного. Все это точно столько же программно, как баллады Шопена, из которых одни имеют характер рыцарский, другие — сельский, пасторальный, или как 2-е скерцо (B-moll), изображающее, по предположениям иных, ряд сцен Дездемоны с Отелло, или как 3-й impromptu (Ges), так же рисующий грациозную сцену двух влюбленных, женщины и мужчины, или как большой полонез (As-dur), где нарисован отряд скачущей конницы, война и звон и гром оружия, как 2-я и 15-я „прелюдии“, обе с колоколами — картины испанского монастыря, монастырского сада, монашеского шествия или, наконец, как обе мазурки C-dur (op. 24 и 56), представляющие изящные картинки польской народной сельской жизни. Мудрено было бы определить „программные“ намерения всех созданий Шопена, точно так же как это трудно, а может быть, и совершенно невозможно сделать с большинством созданий Бетховена, Шумана, Листа и других, но, кажется, не может быть никакого сомнения в программном намерении едва ли не решительно каждого из них. Шопен в этом поступал, как все почти его товарищи по новому искусству: сочинял музыку „программную“, но почему-то не желал объявить во всеобщее известие содержание каждого отдельного творения. Он чувствовал потребность — не играть только в звуки и сочетания, не творить одни музыкальные выкладки, премудрые, преглубокие, изящные, но ничего не содержащие. Ему надо было выражать свою душу, чувство, картины и события своей внутренней, незримой для постороннего люда жизни. Эта потребность была сильна и непобедима, и он ее удовлетворял страстными, обаятельными, чудесно увлекательными звуками и формами своего искусства. Глубокие думы о себе самом и о своем несуществующем более отечестве, свои радости и отчаяния, свои восторги и мечты, минуты счастья и гнетущей горести, солнечные сцены любви, лишь изредка прерываемые тихими и спокойными картинами природы — вот где область и могучее царство Шопена, вот где совершаются им великие тайны искусства, под именем сонат, прелюдий,' мазурок, полонезов, скерцо, этюдов и „impromptus“. И этакие-то потоки горячей жизни иногда пробовали непроницаемые ничем академики рассматривать и ковырять школьной указкой, торжественно доказывать, что „сонаты“ его — не настоящие сонаты, а какой-то сброд безумных звуков, что его „скерцо“ (эти его глубоко оригинальные новые создания) — не настоящая музыка, а музыкальные игры капризного человека. Как хороши солидные умники и знатоки! Что делать, больно видеть и признаться, а нечего делать, надо, сам великий Шуман, страстно обожавший Шопена и всю жизнь пропагандировавший его, не понял его великой сонаты B-moll и счел ее бредом сумасшедшего. Что значит неожиданная, неслыханная новизна даже для человека, истинно глубокого и талантливого!
Лист приходился Берлиозу как будто бы младшим братом, во-первых, по рождению (Берлиоз родился в 1803 году, Лист, — в 1811), а потом также и по началу творчества. Лист многим был обязан Берлиозу как по идее о правах, потребностях и обязанностях „программной музыки“ в наше время, так и по идее о правах, потребностях и обязанностях нынешнего оркестра. Но эти отношения двух братьев существовали лишь в первые, самые молодые годы их жизни. Натуры их обоих были совершенно разные, даже противоположные- так что впоследствии они должны были совершенно разойтись и игнорировать друг друга. И судьбы их поэтому были уже до конца их жизни совершенно различны, ни в чем более не сходились. Натура Берлиоза, сколько ни богатая, великолепная, но была также и сильно ограниченная, если ее сравнивать с натурой Листа. Берлиоз что любил, то любил сильно и прочно, и тут уступок у него не было, тем более, что большинство предметов и личностей его обожания были велики и вполне достойны обожания. Но он также многого в делах своего искусства не знал, не понимал, да и понимать не желал, так много он был иногда скован разными привычками и предрассудками еще со времен своей молодости. Этим он добровольно сам себя ограничивал. Так, например, Берлиоз не знал, не понимал, ни на единую йоту не воспринимал творчества ни Шопена, ни Листа, ни Вагнера. Даже и Мендельсона он знал и понимал очень поверхностно. Творения всех их он не любил. Они все были ему не нужны. Ему были с юношеских лет дороги, милы только Глюк да Спонтини. Позже он остановился в своем понимании на Бетховене и Вебере. Он их узнал еще в молодых своих годах, но дальше их двух никуда уже не пошел, даже до самого конца жизни. Какая разница с Листом! У этого человека натура была такая высокая, великая, глубокая, как это лишь редко бывает на свете. У него сердце было широко наполнено любовью и интересом ко всему и всем, что было великого в его искусстве, его доброжелательство и потребность выдвигать на вид целому миру все даровитое и замечательное — было безмерно, он даже грешил иногда излишней терпимостью и податливостью в оценке достоинства других и во всю жизнь свою являлся таким пропагандистом музыкальных талантов, начиная от самых колоссальных и до самых умеренных, как это никогда еще не было видано на свете. Много лет своей жизни он посвятил на то, чтоб распространять Бетховена, Франца Шуберта, Шопена и других значительных композиторов старого и нового времени, одних посредством своих переложений и своего изумительного исполнения на фортепиано, других своими концертами, театральными, оперными представлениями, статьями, книгами. Не будь Листа на свете, вся судьба новой музыки была бы другая. Но, прогремев на весь мир в продолжение многих лет своим несравненным, огненным, глубоко поэтическим и талантливым исполнением на фортепиано, Лист вдруг покончил с фортепиано и решил сделаться композитором. Это ему теперь больше чем когда-нибудь прежде стало нужно, необходимо, ему теперь без композиторства нечего было на свете жить. Все пережитое им самим, все постигнутое им в созданиях великих музыкантов старого и нового времени дало свой осадок и результат, заставило его искать собственного слова для выражения своей собственной мысли и чувства. До сих пор он создавал новое фортепиано, прежде невиданное, неслыханное и невоображаемое, — в рамки вошли тоже все новые завоевания и мастерство Шопена, — теперь он стал создавать новый оркестр, в который вошли, в значительной доле, все завоевания Бетховена, Вебера, Мендельсона, все новые открытия, все мастерство Берлиоза. Берлиоз создал „программную музыку“ — Лист пошел в товарищи и союзники к нему и в этом и повел дело еще несравненно далее Берлиоза. Он стал живописать в великолепных оркестровых картинах не только великие сцены природы — целую массу пейзажей Швейцарии, Италии, Германии и других стран, не только стал изображать, как Вебер, Берлиоз и Шопен, сцены своего собственного внутреннего мира, душевные события своей собственной жизни — таковы: радостная, блестящая поэма „Festklänge“, сочиненная по поводу предполагавшейся его свадьбы с княгиней Витгенштейн, его глубокое создание „После чтения Данта“, наконец, выше всего, посвященная Шуману „Соната“, одно из величайших и поразительнейших созданий музыки, — но целые ряды картин и скульптур великих художников („Sposalizio“ Рафаэля, „Битва Гуннов“ Каульбаха, статуя „Penseroso“ Микель-Анджело), целые поэмы великих европейских поэтов („Divina Comedia“ Данта, „Фауст“ Гете, потом Ленау, „Мазепа“ Байрона, „Что слышно на горе“ Виктора Гюго, также поэмы Ламартина). Ничего подобного, да еще в таких громадных размерах, никто раньше Листа не предпринимал в музыке. Многие крупные несовершенства первых молодых его сочинений (еще фортепианных) стали отпадать от него, как отболевшая шелуха. Стала исчезать все более и более из его сочинений прежняя иногда манерность, кудрявость, приторность и даже жеманность; его формы очищались и возвеличивались и стали все более и более доходить до степени здоровой, могучей и простой жизненности. Он создал теперь много вещей истинно колоссальных; между ними всего выше те, которые соприкасаются с чувством религиозности и бесконечности, мистического стремления и упований. Это чувство было с самой ранней юности едва ли не главною чертою в поэтической натуре Листа. Таковы чудно-изумительные картины: „Purgatorio“ в его „Божественной комедии“ Данта, финал в его „Hunnenschlacht“, изображающий после ожесточенных диких боев торжество европейского креста над языческими азиатскими ордами; душевное потрясение и плач страстно взволнованного Фауста, услышавшего издали тихий мирный гимн монашеского шествия; наконец, быть может, выше всего по глубине выражения, по необычайной живописности, грандиозности и трогательности картины загробной жизни в „Пляске смерти“, этой единственной, во всей музыке, величавой поэме XIX века. [2]