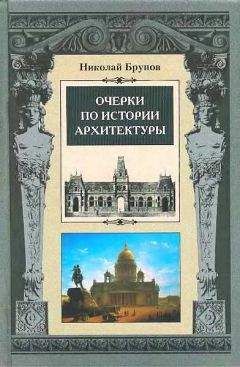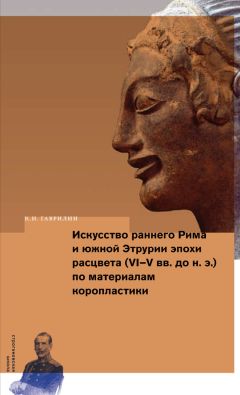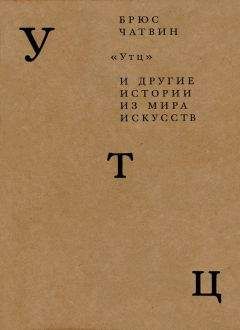Владимир Стасов - Искусство девятнадцатого века
Едва ли не все оперные композиторы Западной Европы, французы и немцы, подпадали постоянно и надолго под влияние Мейербера — между первыми Галеви, Гуно, даже Бизе, между вторыми Лахнер, Лорцинг, Флотов, Николаи, Гольдмарк (да даже, наконец, и Вагнер, его так ненавидевший и презиравший), но ни один из них никогда не достиг ни его трагической силы, ни очертания его народных масс, ни исторической картинности, ни выражения таких разносторонних и глубоких душевных моментов, какие мы встречаем у Марселя, Валентины, Рауля, могучей Фидесы и ее слабого бесцветного сына — пророка.
Казалось бы, достигнутая степень совершенства, завоеванное громадными усилиями торжество над заблуждениями, ошибками, недомыслием прежних людей, водворение здоровых понятий, светлых взглядов должны были бы застраховывать новейших людей от всего, что было прежде дурного и ложного; казалось бы, рядом с совершенным и превосходным становится невозможно повторение старого и немыслим возврат того, что упразднено было новыми светлыми явлениями. Ничуть не бывало! Человек так странно создан, что для него очень часто, если не всегда, новое превосходное — прекрасно, драгоценно и мило, но и прежнее, осужденное и казненное, продолжает жить. Сначала оно немножко полежит, будто мертвое, но потом поднимется с поля сражения, поползет, втихомолку подкрадется, расправит лапы, суставы и длинные щупальцы — и скоро уже опять сидит, живет и царствует на прежних тронах.
Так было в первую четверть XIX столетия — великий, серьезный, глубокий Бетховен был побежден легоньким, подсвистывающим, распевающим Россини; так было потом опять и во вторую и во все другие четверти XIX века. Новая, правдивая, глубокая опера, водворенная Вебером и развитая до высокой степени могучести и красоты Мейербером, должна была уживаться с оперой фальшивой, искусственной, условной и в доброй части безумной, нелепой и безвкусной, какой всегда была, есть и будет опера итальянская. По своей беспредельной банальности эта последняя приходится наруку всякой анти-художественнейшей и прозаичнейшей натуре: этой-то именно она всего более и соответствует, всего более нужна и драгоценна. Так было и на этот раз. Россини, скандализированный успехом „Роберта“, а тем более признанным величием „Гугенотов“, ушел с оперной сцены, отряхая пыль с башмаков своих и повторяя на все стороны, что не воротится назад, пока не кончится жидовский шабаш, — так он больше для театра и не писал. Но Беллини и Доницетти и не думали уходить куда-нибудь и торжественно заседали, осыпанные лаврами и червонцами, на своих треножниках. На что им было уходить, когда сотни тысяч людей захлебывались от восторга и обливались горючими слезами от банальных, сентиментальных, казенных „Сомнамбул“, „Пуритан“ к „Норм“, от слезливых, безвкусных, трафареточных „Лучий“, „Анн Болен“ и „Линд“.
Многие итальянские художники удивительно как любят применяться к заказчикам и публике и превосходно умеют попадать по этой части в такт. Это всегда так было, в особенности с музыкантами. В начале XIX века Спонтини и Керубини, когда им понадобилось переезжать из Италии в Париж, тотчас приспособились к французским вкусам и театру и дали что требовалось на новой квартире: Спонтини — военно-фанфарную и славящую Наполеона оперу „Весталка“ (1806), военно-захватывательную оперу „Фернандо Кортец“ (1809), а Керубини — риторически-раздирательную „Медею“ (1797) и буржуазно-добродетельного „Водовоза“ („Les deux journées“, 1800). Около 20-х годов, когда тотчас после „Фрейшюца“ вошли в моду немцы и немецкая музыка, Буальдье и Обер (об этом уже говорено выше) как умели подделывались и присосеживались к Веберу, а Россини — даже к Бетховену; в тридцатых годах, вслед за торжеством „Роберта“, Беллини и Доницетти, сколько способны были, принюхивались к Мейерберу и старались что-нибудь да производить в его духе, „повысить“ по-новоевропейски свои произведения. Они даже кое-чем побирались у самого Бетховена: так, например, теперь уже давно замечено, что „хор друидов“ в „Норме“, столько всегда всем нравящийся, есть жиденькое эхо начала знаменитой Cis-moll'ной сонаты Бетховена.
Позднее, в 80-х и 90-х годах, Верди пробовал понаучиться кое-чему у Вагнера. И, конечно, все-эти старания и усилия были совершенно напрасны. Пословица говорит: „Ученого учить — только портить“. К чему итальянцам смотреть на каких бы то ни было старых или новых авторов, когда они и так милы всем, когда они и так нравятся, когда они и так гипнотизируют массу, когда они так близко и родственно приходятся по ней, когда они одни только ей и нужны. Но слишком обидно и больно видеть, что никакое истинное, здоровое, чистое, талантливое искусство ровно ничего не изменяет во вкусах и понятиях толпы: она как будто ими наслаждается, понимает и оценивает, но также каждую минуту бежит от них и страстно целует и обнимает каких-то нищих духом, лохмотниц-старух, уродливых, изъеденных болезнями, отталкивающих, и ими счастлива.
Мне могут указать на комическую оперу. „А что же про нее надо сказать?“ — спросил бы, может быть, кто-нибудь. „Неужели она одного и того же поля ягода с прочей итальянской оперой? Ежели фальшивы, ненужны и праздны те „высокие“ чувства, которые возбуждает драматическо-лирическая итальянская опера, то неужели столько же праздны, фальшивы и ненужны те чувства веселости, беззаботной радости и довольства, которые возбуждает итальянская комическая опера? Неужели итальянские комические композиторы столько же мало стоят, как и трагические?“ — Я бы отвечал на подобные вопросы так: во-первых, мне кажется беззаконным, насильственным и произвольным выделять комический элемент в особенный род созданий: драма и комизм идут в жизни вместе, и в искусстве должно существовать то же самое. Но если уже живут в искусстве (покуда, до поры до времени) этот каприз и эта условность и их надо сносить, то, мне кажется, есть гораздо более жизни, правды и искренности в опере итальянской (да тоже и французской прежнего времени) комической, чем в трагической итальянской (а тоже и французской). Так было уже и в XVIII веке, во времена Чимароз и Паэзиелло, а тем более, оно так и есть и в наше время, в XIX веке. „Севильский цирюльник“, „Сорока-воровка“, „Ченерентола“, „Любовный напиток“, „Дон Паскуале“ и вся масса французских комических опер и опереток, не взирая на все свои убожества и недочеты, в тысячу раз более значат, чем все „Семирамиды“, „Танкреды“, „Отелло“, „Пуритане“, „Лучии“, „Линды“, „Лукреции Борджиа“ и проч. Царствующая в них веселость, смешливость, забавность — чистая принадлежность южного темперамента, все это прямо лежит в характере южанина, помимо всякого таланта и художества. Не говорил ли сам Бетховен про талантливейшего из итальянских комиков, Россини: „А в нем все-таки есть кое-что. Если бы его хорошенько поучить да посечь, верно, из него что-нибудь да и вышло бы“. Это Бетховен говорил по поводу „Севильского цирюльника“. Конечно, он никогда не сказал бы ничего подобного по поводу „Семирамиды“ или „Танкреда“, или „Вильгельма Телля“.
63
Покуда происходило во Франции, складывалось, росло и крепло значительное движение в области оперы, подобное же параллельное движение нарождалось, в той же Франции, в области инструментальной музыки. Ни в продолжение всего предыдущего XVIII века, ни во всю первую четверть XIX века не являлось во Франции особенно замечательного, особенно талантливого инструментатора. Но в начале второй четверти этого века явился французский музыкант, который как бы наверстал все потерянное время и разом сделал такие громадные шаги, что вознаградил свое отечество за долгие годы бесплодного недочета.
Это был Берлиоз.
Берлиоз представлял собою удивительную смесь качеств совершенно противоположных: силы гениальной и слабости истинно изумительной.
Сила Берлиоза состояла в том, что он одарен был великой способностью понимать все поэтическое и великое в природе, в людях, в созданиях искусства; что у него была великая потребность выражать свои чувства и мысли, ощущения в формах художества; что он, никогда не останавливаясь, совершал это со всем доступным ему мастерством в продолжение всей своей жизни; наконец, в том, что для выполнения своих целей он создал новые музыкальные формы и новый оркестр, вошедшие потом как драгоценнейшее достояние в жизненный состав выросшего под его творческой рукой искусства. Слабость же Берлиоза состояла в множестве предрассудков прежнего и нового времени, от которых он никогда не мог отделаться и которые мешали ему постоянно сделаться тем, чем он по богатой натуре своей в состоянии был бы, повидимому, сделаться. В юности он воспитался на классиках литературы и музыки, на «Энеиде» Виргилия, на операх великого Глюка и малого Спонтини, вовсе ему не свойственных, воспитался на их идеализме, лжеантичности и парадной декламации. От этого-то он и в конце жизни своей сильно хлопотал о сочинении, а потом постановке своей оперы «Троянцы», тогда как не имел никакой способности к опере вообще, и к античной в особенности. Позже он узнал Шекспира, Байрона и Гете, восхитился ими и вообразил себе, что следует по их стопам и будет воплощать их в музыке, но глубоко ошибался и не видел, что сочиняет музыку в формах того самого «романтического» искусства, которое царствовало везде вокруг него, в «юной Франции» 20-х и 30-х годов. Это «романтическое», модное искусство требовало изображения всяческих ужасов, галлюцинаций, казней, палачей, ада и рая, небесных видений и преисподних ужасов, опиумов, ядов, монахов, разбойников, убийств, неистовых страстей — и Берлиоз спешил изображать все это с горячностью и необузданным стремлением 20-летнего юноши. Результатами этих годов были его фантастическая симфония «Эпизод из жизни художника» (1829) и драматическая симфония «Буря» для хора и оркестра (1829) на сюжет драмы Шекспира, вошедшая скоро потом в его лирическую монодраму «Лелио, или Возвращение к жизни», для соло, хора и оркестра (1832). Тут были собраны вместе всяческие романтические ужасы, самоотравления безнадежно влюбленного музыканта, его опиумные видения: шествие на казнь, пляска и оргия шабаша, потом возвращение от этих видений к жизни. Все это были глубокие ошибки и заблуждения. Берлиоз вообще не сознавал еще настоящей своей натуры, (его только увлекали бушевавшие и бурлившие в нем, по тогдашнему символу веры, страстней он только злоупотреблял свои силы и растрачивал их понапрасну. Но в 1833 году он женился на английской трагической актрисе Генриетте Смитсон, которая долго была предметом его пламенной страсти, начал мало-помалу успокаиваться и приближаться к выражению настоящей своей натуры. В 1834 году была кончена его симфония «Гарольд в Италии», на сюжет из поэмы Байрона, с оригинальной партией solo для альта, по требованию знаменитого скрипача Паганини (который ему подарил потом, в 1838 году, 20 000 франков — будто бы от восхищения талантом Берлиоза, а, как позже оказалось, по совету Жюль-Жанена, для поправления в Париже репутации Паганини, пострадавшей от разных обвинений). В этой симфонии было уже гораздо меньше безумствующего «романтизма», и он тут представлен только довольно нелепой «оргией разбойников». В 1837 году Берлиоз исполнил в Соборе инвалидов свой «Реквием», но романтического здесь уже окончательно ничего не было и только употреблены были громадные, отроду еще нигде не виданные и не слыханные оркестровые средства для изображения картин загробной жизни, впрочем, ничуть не чудовищные сами по себе (16 тромбонов, 16 труб, 5 офикленд, 12 валторн, 8 пар литавр и т. д.). В 1839 году была сочинена Берлиозом драматическая симфония с хорами «Ромео и Джульетта» по Шекспиру; в 1846 году — его легенда «La damnation de Faust» (Проклятие Фауста); в 1849 — его «Те Deum» для трех хоров с оркестром и органом; в 1854 — трилогия «L'enfance du Christ», в 1858 — опера «Троянцы». Ни во всех этих сочинениях, ни в его увертюрах: «Уеверлей» и «Роб-Рой» (по романам Вальтер Скотта), «Les francs-juges» (Судьи тайного судилища), «Король Лир», «Корсар» (по Байрону), «Римский карнавал», ни в нескольких его кантатах и балладах, нигде никаких ужасов и неистовств более и следа нет. Берлиоз будто остепенился, возмужал и мало-помалу пришел к выражению настоящей своей художественной физиономии. А в чем состояла его художественная физиономия? Это, мне кажется, всего лучше и вернее высказал однажды наш Глинка в своих «Записках». «В Париже мне сочинения Берлиоза нравились, — говорит он, — особенно в фантастическом роде, как-то: скерцо „La reine Mab“, из Ромео и Юлии, „La marche des pèlerins“ из „Гарольда“, „Dies irae“ и „Tuba mirum spargens sonum“ из его „Реквиема“. — Что может быть вернее и полнее этих немногих слов? Но такова уже привилегия гениального человека: понять всю суть чужого великого создания, одним взглядом, до самых корней, и потом выпукло выразить это в какой-нибудь паре слов. В самом деле, ничего нет выше в творчестве всего Берлиоза, как способность схватывать живописность и поэтичность внешних явлений и талантливо рисовать их линиями и красками своей музыки. Берлиоз всегда воображал про себя, что его удел — грандиозные, колоссальные, потрясающие картины à la Микель-Анджело, и для этого он накоплял бесконечно-громадные силы оркестра. Но это было совершенно не нужно, это был самообман и ошибка. Никаких громадных миров и картин он никогда не нарисовал, тут были только ненужные потуги и усилия. Напротив, ему всего свойственнее было живописать мир кроткой, тихой красоты и милой грации и, выше всего этого, мир волшебный, самый крошечный, микроскопический, сверхъестественный и фантастичный. Для этого не надо было никаких необычайных оркестровых громад. Царица Маб, носящаяся в воздухе на крыльях бабочек и светящаяся в луче солнца; крошечные сильфы, пляшущие и копошащиеся на цветочках; блудящие огоньки; картинка весны, дышащей грациозной жизнью и ароматами вокруг Фауста в минуту его пробуждения среди венгерских долин; картинка красивой итальянской природы, среди которой двигается живописная толпа пилигримов; веселая и блестящая атмосфера бала; веселый карнавал на римских улицах; поэтичная картинка природы, с эоловой арфой, для „Бури“ Шекспира; две бури, прекрасные по музыке, но все-таки довольно умеренные по силе и выразительности (одна шекспировская, другая виргилиевская) — вот лучшие его создания. Иные страницы в „Реквиеме“ эффектны по внешнему впечатлению, опять-таки как живописные картинки внешности, но не заключают в существе своем никакой колоссальной мысли, чувства и ощущения, ничего погребального и загробного. К таким задачам и темам Берлиоз был глубоко неспособен. Ни глубокого религиозного, ни какого-либо вообще мистического чувства у Берлиоза в натуре не было. Лучшие места его высокоталантливого „Те Deum'a“: „Tibi omnes“ и „Judex crederis“ чудесны по красоте и картинности, но глубоких душевных волнений и потрясений производить не могут. Вступление к „Юности Христа“ — милая прелестная идиллия.