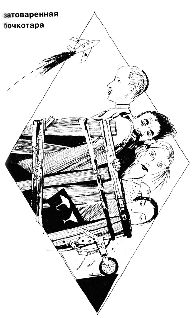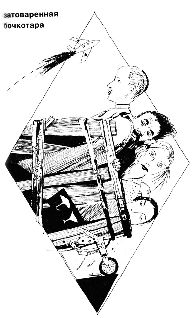Юрий Щеглов - «Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова. Комментарий
Мчащийся вдаль поезд издавна служил в советской литературе символом победного движения вперед, к светлому будущему («Наш паровоз, вперед лети…»). В созвучии с традиционным смыслом архетипа «экипаж и пешеход» попасть в такой поезд означало жизненный успех, пропустить же его мимо и скорбно провожать глазами с обочины – неудачу, провал жизненных целей (ср. в финальной части «Золотого теленка» грандиозный символ «литерного поезда», из которого строители новой жизни выбрасывают индивидуалиста Остапа Бендера, оставляя его одного в ночи). Такого рода истолкование принадлежит прошлому: пропуск поезда теперь осмысляется как положительное событие. Полная инверсия в ЗБ этих одновременно древних и советских мотивов – наглядный показатель перемены, происшедшей за полвека в осмыслении «советского столетия» его наиболее проникновенными художниками.
Среди героев ЗБ самым поразительным – и поистине героическим по масштабу и последствиям перемены – представляется, пожалуй, дрожжининское «прощайте навсегда», поскольку оно означает не только освобождение, на благо простых халигалийцев, от злодейской фигуры Сиракузерса, но и полное перечеркивание всей Халигалии, своего многолетнего романа с нею и связанных с нею мифов. Иными словами, это отказ Вадима Афанасьевича от своей прежней любви и всего своего с таким трудом и методичностью возведенного личного мира. Не менее определенно моченкинское «туды им и дорога» (заграница в представлениях народа часто связывается с тем светом); вместе с Андроном Лукичом улетают в небытие все жалобы, заботы об «Алименте» и жадность к приобретениям – иначе говоря, весь прежний, привычный Моченкин. «Усе моя заявления и доносы прошу вернуть взад» (стр. 70) – это уже полный кенозис в духе древнерусских старцев, отказ от всего бывшего себя… Как будет видно далее, Вадим и дед Иван по ряду признаков схожи; так, из всех героев они особенно тесно связаны с истеблишментом и преданы его ценностям (см. примечания к стр. 8–9). Как будут жить эти два персонажа, чем займутся они, отказавшись от главного дела своей жизни, – остается неясным. Как мы видели, в других аналогичных сюжетах это освобождение от советской фальши значило и физический уход со сцены даже более талантливых и полезных личностей, чем эти двое. Но нет смысла думать о будущем героев ЗБ: ведь повесть эта – «с преувеличениями», и одним из них является такая фантастическая схематизация всех процессов, при которой вопросы о Nachgeschichte, естественные при более реалистическом режиме повествования, теряют смысл. Действующие лица ЗБ просто растворяются, тонут в наступившем сиянии своих душ, и в последнем, общем сне бочкотара плывет по реке, по всей видимости, уже без них[11], чтобы воссоединиться с пославшим ее Хорошим Человеком.
От комментатора
В нижеследующих комментариях речь идет не только о предметах малоизвестных и забытых, но иногда и о явлениях всем памятных и знакомых, если они типичны и важны для понимания эпохи или если заслуживает объяснения их особая роль в художественном замысле произведения.
Еще одно оправдание для пояснения «общеизвестного» – в том, что примечания эти рассчитаны не только на читателей-соотечественников, но и на иностранных славистов и вообще любых лиц, интересующихся культурой бывшего СССР. Комментатор знает по своему опыту преподавания в североамериканских университетах, что для нерусской аудитории, даже при хорошем знании языка, значительная часть аллюзий и стилистических тонкостей остается непонятной и – более того – что просто заметить присутствие в том или ином месте текста чего-то особенного, проблематичного и нагруженного специальным смыслом не всегда оказывается возможным.
Недопонимание это – крайний случай того, что в разной степени может постигнуть любого читателя, в том числе и российского. Для многих сегодняшних читателей 1950-е и 1960-е годы почти столь же далеко отошедший мир, каким были для нашего поколения 1920-е, времена «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка». Между тем ЗБ – классика современной русской литературы, произведение, во всех своих деталях заслуживающее самого чуткого прочтения. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить как можно более адекватное понимание ее текста как отечественными читателями, так и иноязычными переводчиками и той публикой, для которой они работают.
Из соображений архитектонической цельности Комментарии разделены на две части: «Комментарии к основному тексту», к тому, что происходит наяву, и «Комментарии к снам», составляющим отдельный, параллельный мир.
Комментарии к основному тексту
Устроил я его в цех. Талант телескоповский, руки телескоповские, наша, телескоповская голова, льняная и легкая. Глаз стал совершенно художественный. У меня, Петр Ильич, сердце пело, когда мы с Владимиром вместе возвращались с завода… (стр. 5). – Жалобы Телескопова-старшего на непутевого сына отражают мышление и стиль советских произведений о рабочем классе, о «рабочих династиях». Характерны в этом отрывке и работа разных поколений одной семьи на одном заводе, их совместный путь туда и обратно («когда мы с Владимиром вместе возвращались с завода…»); и понятие о «фирменных», наследственных чертах рабочих семей («руки телескоповские» и т. п.); и отношение к рабочей профессии как к искусству, гордость ею, приравнивание мастера-рабочего к музыканту, художнику, к профессионалам интеллектуального труда («глаз <…> художественный», «сердце пело»).
«Классическим» образцом этого жанра может служить роман В.А. Кочетова «Журбины» (1952), где герои всех степеней родства – отцы, дети, внуки, жены, невестки, зятья, родные и двоюродные братья и сестры – живут под одним патриархальным кровом и трудятся с дедовских времен на одном и том же судостроительном заводе. Завод давно стал для семьи Журбиных родным домом, центром их жизни; и сами они настолько прочно вросли во все сферы производства, настолько окрасили его «журбинским характером» и «журбинской породой», стали «живой биографией» своего завода, что последний, в свою очередь, почти отождествляется с Журбиными и не может без них существовать («Завод не мыслился без деда Матвея…»; «Журбиными поинтересуйтесь. Одни могут корабль построить…» и т. д.). Сошедший со стапелей корабль для любого из Журбиных – не отчужденное механическое изделие, но живой «организм» и «родное детище» (см.: Кочетов 1962: 200, 235, 249, 330, 333, 344, 360, 379, 393, 476 и др.).
Пародируя тему «рабочих династий», Аксенов затрагивает важный момент литературной мифологии сталинизма и последующих советских периодов. Как показала в своем магистральном исследовании о романе соцреализма Катерина Кларк, начиная со второй половины 1930-х годов и до конца хрущевско-брежневской эпохи в официозной риторике преобладала метафора советского общества как единой большой семьи, ячейкой которой является малая семья, т. е. семья в собственном смысле. Такая концепция дает стимул к уподоблению, а в конечном счете и к слиянию двух семей, к вхождению малой семьи – и притом не по отдельности, а как ощутимо цельной единицы – в большую государственную семью. Как говорит Кларк,
В течение сталинского периода постепенно развилось убеждение, что «ядерная» [традиционная] семья должна быть не противовесом государству [т. е. большой семье], а его помощником. В тридцатые годы пресса публиковала выразительные примеры того, как члены собственно семьи осуществляют свои семейные роли в рамках большой символической семьи – Родины. На пленуме Союза писателей в 1936 году драматург Киршон заявил, что «если погибнет один из наших пограничников, кто-нибудь обязательно станет его братом и заменит его <…>». Ждать пришлось недолго: в марте 1937 года журнал «Большевик» сообщил о двух независимых случаях, когда убитого пограничника заменил на боевом посту его родной брат.
(Clark 1985: 115–116; перевод наш. – Ю.Щ.)Говоря о видоизменениях этой модели в послевоенные годы и специально о романе «Журбины», Кларк замечает:
«Малая семья» в литературе сороковых годов более тесно переплетается с «большой семьей» <…> Хотя эти две сферы и не перекрывают друг друга полностью <…> авторы иногда ухитряются продвинуть довольно много представителей одной-двух семей на руководящие роли в иерархических структурах места действия своих романов <…> В «Журбиных» В. Кочетова состоящая из четырех поколений семья судостроителей <…> оказывается почти коэкстенсивной местной «большой семье».
(Там же: 204–205; перевод наш. – Ю.Щ.)Нежелание Володи Телескопова вписаться в стереотип «рабочей династии», его уход с завода и легкомысленный образ жизни, в результате которого Телескопов-старший, по его словам, «совсем атрофировал к нему отцовское отношение» (стр. 5), – симптом падения этих соцреалистических идиллий.