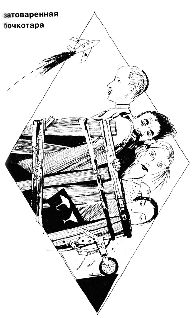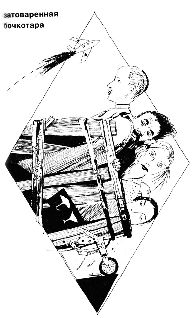Юрий Щеглов - «Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова. Комментарий
Лаборант Степанида Ефимовна, которую путешественники встречают на пути и принимают в свою компанию, располагается на границе между второстепенными и главными героями (в частности, она «допущена к участию» в сновидениях пассажиров бочкотары). Некоторые замечания о ее персоне читатель найдет в комментариях к ее единственному сну. По бурной сексуальности своих фантазий, страхов и мечтаний эта научная старушка не уступает молоденькой учительнице Ирине. Речь ее, по-фольклорному напевная, уходит корнями в глубокие слои народных легенд и верований: «Ай батеньки, а бочкотара-то у вас какая вальяжная, симпатичная да благолепная <…> ну чисто купчиха какая…» (стр. 38); «Ой, схватил мине за подол игрец молоденькай, пузатенькай <…> Пусти мине, игрец, на Муравьиную гору!» (стр. 54); «А ты, мил-человек, кирпича возьми толченого, <…> узвару пшеничного, лебеды да табаку. Пятак возьми медный да все прокипяти. Покажи этот киселек месяцу молодому, а как кочет в третий раз зарегочет, так пальчик свой и спущай…» (рецепты народной медицины, стр. 40).
В развитии действия главную роль играют сны: именно в сновидениях продвигается вперед взаимная фузия героев, отказ их от прежних верований, растет привязанность к бочкотаре. От сна к сну, начиная с самых первых, разыгрывается архетипический сценарий личной регенерации (квазисмерть, низвержение в мрачные низины и др.). Мы не станем подробно прослеживать здесь постепенное ослабление в героях личных амбиций, переориентировку целей, постепенный рост идеализма и заботы друг о друге, вплоть до появления человечных черт даже в самом закостенелом из всех, старике Моченкине, – все это читатель повести без труда найдет сам как в тексте повести, так и в комментариях к ней.
Характерным моментом, много раз подчеркнутым, надо считать полную непрактичность, бесполезность с общепринятой точки зрения того объекта, который ее герои должны взять под свою охрану и довезти до цели. Непонятная сила властно призывает героев к этой странной миссии, отвлекая каждого от его прямых обязанностей. Целевая поездка, в которую каждый из них собирался отправиться отдельно от других, сменяется их совместным странствием в неясном направлении, выключенным из нормального счета времени, не имеющим пространственных координат. Это путешествие по «заколдованному» пространству в центре европейской России заставляет Глеба забыть о своих воинских обязанностях, Дрожжинина – о Халигалии и своем институтском кабинете, Моченкина – о ходатайствах и доносах. Списанное и подлежащее выбросу утильсырье становится общим центром притяжения, играя в их судьбе очищающую, объединительную и освобождающую роль, отвлекая каждого от его личных условностей и суетных мотивов и заставляя «трепетать за свою любовь», одну и ту же для всех. Бочкотара неожиданно оказывается драгоценностью, ради которой каждый готов поступиться своей индивидуальностью, карьерой, а в перспективе и самой жизнью. Забравшись с самого начала пути в ячейки бочкотары, герои повторяют вызывающий жест Диогена, для которого такой выбор жилья означал уход от общества, неприятие его авторитетов и ложных ценностей[8]. На бочку как убежище отверженных указывают многие символические мотивы фольклора, литературы и кино: в бочке пускают в море тех, кого хотят стереть, ликвидировать (см. хотя бы пушкинскую «Сказку о царе Салтане…»); в «Стачке» С.М. Эйзенштейна из врытых в землю бочек выскакивают живущие в них бродяги (титр: «ШПАНА»). Добровольно выбирают это помещение и герои ЗБ; ради предмета, который большинством отвергается как ненужная мерзость, они сами отвергают все то, во что всю жизнь верили[9]; путешествие в неопределенную даль в развалившихся бочках они предпочитают посадке в комфортабельный, ожидающий всех, якобы ведущий к общему счастью маршрут «19.17». Преображаются под воздействием путешествия с бочкотарой даже самые закоренелые и гротескные из ее пассажиров, вроде старика Моченкина, который в своем последнем письме пишет: «Усе моя заявления и доносы прошу вернуть взад» (стр. 70).
Предпочтение, отдаваемое Аксеновым ненужному и презираемому перед свыше одобренным, социально солидным, неудаче перед успехом, непрактичности перед карьерным «достиженчеством», следует считать одной из несомненных перекличек с миром чеховских и толстовских героев. Для последних, особенно у Чехова, тоже типично находить новизну и отдушину для свободного дыхания где-то на слабой и запущенной периферии, отворачиваясь от угнетающей тесноты, «гиперструктурированности» центральной зоны жизни с ее культом преуспеяния, силы и престижа. При этом существо, приемлющее обновленную персону героя, часто обладает чертами жалкости, беспомощности, маргинальности и одновременно женскости (провинциалка Анна Сергеевна, про которую Гуров думает «что-то жалкое есть в ней все-таки», социально-отверженный и по-бабьи плаксивый Ротшильд – существа одного типологического семейства; см.: Щеглов 1994). Аксеновская бочкотара – еще один феминативный символ такого рода; ее характеристики – «затоварилась, зацвела желтым цветом, затарилась, затюрилась и с места стронулась» (эпиграф) – указывают на слабое шевеление новой жизни на гниющих остатках старого, возможность брожения и возникновения иного мира на пока что презираемой, непрестижной почве.
У Аксенова существом той же семьи, что и бочкотара, является «Цапля» в одноименной пьесе 1980 года. Жалкая, в отрепьях, появляется она на горизонте, вызывая у одних брезгливость и презрение, а у других поклонение и любовь, и в финале торжествует, объединяя вокруг себя разношерстную компанию действующих лиц, в том числе и исправляющихся под ее взглядом злодеев (bad guys). Под конец она садится высиживать таинственное огромное яйцо, в котором, как мы догадываемся, заключено будущее человечества. Робкая, приниженная птица, из тех, что, по слову поэта, «мало значат» (Бродский), оказывается могущественной силой, неким таинственным излучением обезоруживающей хамов и бюрократов. В ее присутствии теряют силу власть и интриги, спадают искусственные наслоения и очищается первоначальный человеческий субстрат в тех, кто еще не потерян необратимо. Так, одна из самых свирепых преследовательниц Цапли («крупный женский общественник» Степанида) сбрасывает слои жира и фальшивые шары грудей, после чего «одежды обвисают на ней, и она идет рядом с Цаплей, жалкая, застенчивая и вполне человечная» (Аксенов 2003: 664). В повести «Пора, мой друг, пора» также провозглашается идеал простой безоружной человечности в противовес культу «кулака» и власти: «Жалкая личность лучше, чем сильная личность» (Аксенов 2009: 247). Другие герои Аксенова из семейства борцов и суперменов получают аналогичные уроки и переживают сходные метаморфозы, но в более трагических версиях. В «Рандеву» герой погребен в строительной яме, но тут же выходит из нее – сбросив с себя весь свой глейморизм и свойства «ренессансного человека» и скорее неживой, чем живой; проходя мимо молчаливой толпы своих друзей-знаменитостей, он направляется в сторону некой «маленькой дверцы». Надежда на спасение (духовное, если не телесное) снова приходит из феминативного источника: в дверце появляется жена героя, одинокая читательница в очках, всегда скромно остававшаяся на периферии его многошумной жизни.
Открывающаяся «маленькая дверца» в «Рандеву» многозначительна: такая дверца в ряде произведений служит инструментом почти волшебного спасения героя, его «ухода через стену» в последний момент (например, в финале «Приключений Буратино» А.Н. Толстого или в «Белой гвардии» М.А. Булгакова, сцена преследования Алексея Турбина петлюровцами; уход преследуемого героя почти что в стену в ряде немых приключенческих комедий и др.). «Смерть» героя в «Рандеву» не совсем обычна и имеет черты морального возрождения («Неужели спасен?» – восклицает герой, видя дверцу; Аксенов 1991: 298). Она несколько напоминает «смерть» двух заглавных героев в финале «Мастера и Маргариты», допуская какое-то неясное по своей природе продолжение существования и даже творчества в ином пространстве. Столь же неопределенна, по сути дела, и конечная судьба героев ЗБ, хотя об их физиологической смерти речь не идет.
Станция Коряжск – конец совместного пути; по слову старика Моченкина, «отседа нам всем своя дорога». Описание коряжского вокзала насыщено аллюзиями и символикой. Оборудованный по последнему слову техники, он изобилует автоматикой всех родов, но главная его достопримечательность – это «электрически-электронные часы, показывающие месяц, день недели, число и точное время» (стр. 68). Часы эти отсчитывают советскую хронологию: коронным ее моментом, отмеченным прохождением экспресса «Север – Юг», является, как известно, 19 часов 17 минут – 1917[10]. Контраст между этим хронометрически точным временем и тем неопределенным, лишенным счета временем, в котором проходило путешествие, напрашивается на аллегорические интерпретации. Сам вокзал – «странное громоздкое сооружение <…> со шпилем и монументальными гранитными фигурами представителей всех стихий труда и обороны» (стр. 67), то есть, по-видимому, одно из грандиозных, подавляюще-торжественных зданий сталинского барокко. Судя по статуям на темы «труда и обороны», можно полагать, что речь идет о постройке эпохи «высокого сталинизма», т. е. конца 1930-х годов. Как мы хорошо знаем, этот «классический» период, в свое время героизированный и воспетый представителями всех советских муз, вызывает у Аксенова, для которого он был порой детства, своеобразное чувство мрачной ностальгии. К этой «ядерной» исторической парадигме писатель обращается через голову своего собственного времени почти во всех своих произведениях, из нее стремится извлечь ключевые формулы и проникновенные истины о природе «советского столетия» – и с ее ветшающими эмблемами иронически разделывается при всяком удобном случае.