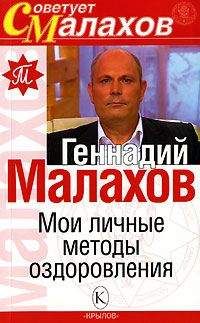Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Всё сказанное вовсе не следует понимать в том смысле, что мои-то переводы свободны от разнообразных и многочисленных недостатков языка и слога, а возможно и ошибок в толковании оригинала. Напротив, несмотря на то, что каждый разсказ был переделан мною по крайней мере пятикратно, явные и неказистые погрешности заново бросаются в глаза всякий раз, что случается пересматривать мои «слепки» по прошествии времени. Предпоследний такой случай представился, когда я редактировал семь разсказов для нью-йоркского «Нового Журнала» (номера 200-й и 207-й за 1995 и 1997 годы) и потом еще «Сестер Вэйн» отдельно для «Иностранной литературы» (5-й за 1997 год); но готовя в последнем году двадцатого века отдельное издание, я опять обнаружил множество мест, требовавших новых перемен, и эта неустойчивость и, можно сказать, скорая порча текста, внушают мне тревогу частного характера. Увы, в книге, где рядом и в череду с русскими оригиналами Набокова помещены посильные подражания, ни недостаток опыта, ни даже избыток добродушия не помешают читателю заметить разность между настоящим ореховым деревом и фанерой под орех.
2.
Позволю себе несколько замечаний по поводу некоторых особенно важных мест в этих разсказах, которые могут затруднить читателя или не удостоиться его внимания. Название «…Что как-то раз в Алеппо» взято Набоковым из последней сцены «Отелло», где генерал произносит эти слова перед тем как покончить с собой. Согласно интересному, хотя и весьма спорному предположению профессора Долинина, безымянный повествователь убил, быть может из ревности, свою бледно-расплывчатую, пышноволосую жену и стоит (это-то безспорно) на пороге самоубийства.
Стихотворения «забытого поэта» в «подлиннике» не имеют ни размера, ни рифмы, потому что предполагается, что они суть английские «переводы» русских стихотворений Перова. Им нужно было придать форму, естественную для стихов русского поэта половины девятнадцатого века.
Английское название «Условных знаков», Signs and Symbols, имеет помимо отдельного значения обоих слов и устойчивое совместное: так называется перечень обозначений в углу географической карты. Вопрос о том, кто и с какою вестью телефонирует в последнем предложении несчастным родителям повредившегося в уме юноши, обсуждался в невероятных тонкостях в десятках ученых статей западных изследователей, разумеется, безо всякого удовлетворительного ответа, и оттого, что к телефону некому подойти, он продолжает звонить, покуда не начнешь читать разсказ сызнова (что и было, вероятно, замышлено автором, любившим замкнутые композиции).
В разсказе «Быль и убыль» Набоков пользуется необычным изводом известного приема «остраннения привычного». Вместо того, чтобы прикладывать увеличительное стекло к обыденной действительности и делать ее «странной» для глаза, он переводит стрелку зрения на семьдесят лет вперед от этой действительности и разсматривает ее в телескоп с призрачной дозорной каланчи будущего совершенного. Таким образом читатели повести девяностолетнего будто бы мемуариста и читатели разсказа Набокова живут в разных веках, и современник видит свое время как бы в отражении и вместе узнает и не узнает его. Как это часто бывает у Набокова, последнее предложение, по обыкновению особенно напряженное и ветвистое, особенно важно для понимания всей вещи. Упомянутого там озера на этом свете нет.
Из всех разсказов пожалуй только «Помощник режиссера» и «Жанровая сцена, 1945 г.» не принадлежат к числу лучших произведений Набокова. Можно даже сказать, что среди его зрелых разсказов это самые слабые. Причина здесь та, что оба они написаны вскоре по переселении в Америку, когда Набоков менял родной, прирученный язык как средство и душу художественного выражения на язык усвоенный, и хотя он владел им превосходно сызмала, все же есть огромная разница между своей рукой и самым удобным протезом, как бы ловко им ни орудовать. Сила скоро вернулась и потом даже удвоилась; другое дело чувствительность в кончиках пальцев: железной рукой можно колоть орехи, но трудно листать страницы или заводить часы. Впоследствии он сделался виртуозом и тут, но давалось это искусство особенно мучительно, требовало неимоверного упорства и мужества, и только ничтожная доля этих мук известна читателю Набокова, да и то главным образом из его частных писем, напечатанных по смерти.
Как я уже говорил, первые американские разсказы, вследствие этих и других причин, были написаны отчасти для упражнения; это была своего рода физическая терапия новых пальцев посредством разыгрывания гамм. Оттого-то эти разсказы первой половины сороковых годов так необычны для Набокова — не в смысле темы (темы тут всё еще русские) или ее обработки (искусно-тщательной), а скорее в смысле отношения или лучше сказать взаимо-положения мира, данного пяти или шести чувствам, и мира вымышленного. В «Помощнике режиссера» — первом американском разсказе Набокова — действительная история вставлена в прихотливую раму повествования от первого, и весьма осведомленного, лица, причем лица по-видимому духовного (намеки на это обстоятельство разсыпаны там и сям). Однако историческая основа ни в чем не перекроена, а только по ней вышит нарочитый узор, и в этом чуть ли не документальном повествовании воображению Набокова явно тесно и немного скучно.{184}
«Жанровая сцена» еще теснее: это единственное сочинение Набокова написанное на злобу дня. Совпадение имени, приводящее к комической путанице лиц — ход прямолинейный, понадобившийся затем только, чтобы объяснить присутствие героя среди совершенно чуждых ему людей, каждый из которых представляет собою утрированный и яркий тип американской пошлости известного рода (о немецкой нечего и толковать). И не только присутствие, но довольно долгое высиживание этой путаницы — всё это ради того, чтобы передать разговоры, портреты говорящих и атмосферу от первого лица. Это похоже на журнальный прием и стало быть непохоже на Набокова. Кажется, что ему хотелось непременно высказаться, тогда же, тотчас, и он одел свое возмущение в один из первых подвернувшихся (и подходящих по размеру) костюмов из своего громадного театрального гардероба. Разумеется, Набоков мастер своего дела, и искусство композиции, переливы ритма, аранжировка полускрытых ходов, и наконец самый слог и тут стоят на привычной высоте, на том когда-то достигнутом уровне выразительности, ниже которого он был неспособен написать ничего, даже и частного письма. Эти два разсказа отнюдь не сырые, а скорее художественно пресные — сочинения, написанные на темы заданные действительностью, а не навеянные воображением.
«Пильграм» в английском переводе у Набокова называется «The Aurelian», т. е. собиратель и так сказать страстный ревнитель бабочек, лепидоптероман. В конце концов сильное это увлечение, получившее было возможность выхода, стремится прежде всего к перемещению в пространстве: Пильграм собирается на поезд, чтобы умчаться в свой чешуекрылый парадиз, но вместо того его отправляют неизвестно куда неизвестными путями сообщения.
Страшный разсказ «Облако, озеро, башня», который напоминает о «Приглашении на казнь» не только одним возгласом бедного Василия Ивановича и своим вальсовым дактилическим ритмом, особенно интересен тем, что тут знаменитый «представитель» автора, его необходимый посредник между миром нашим и вымышленным, т. е. иным, появляется в начале и в конце без обычного своего камуфляжа, и его роль объясняется без околичностей прямо в программке. Я, кстати сказать, видел крест с полустертой надписью на облупившейся белой краске над могилой «Василия Ивановича» (фамилья не сохранилась, год смерти можно едва разобрать как 1937) на берлинском православном погосте в Тегеле, где рядом с храмом свв. Константина и Елены похоронен и отец Набокова.
Однажды, в 1950 году, в нью-йоркской Итаке, чудесном городишке на севере штата, где на крутой горе над продолговатым озером Каюга кремлем расположился внутренний городок Корнельского университета, Набоков за обедом у своего коллеги Бишопа объявил, что намерен писать роман из жизни сиамских близнецов. «Ничуть не бывало», сказала Вера Евсеевна, которая обыкновенно не вмешивалась в художественные проекты своего мужа. В половине сентября он начал писать не роман, а трех-частную повесть, в первой части которой сросшиеся от рождения близнецы живут у себя на хуторе в турецких, что ли, горах, откуда пытаются бежать; во второй их умыкают в Америку, где они женятся на двух раздельных сестрах; в конце же концов близнецов хирургически разъединяют, причем один умирает тотчас, а другой — повествователь — по окончании своей повести. Однако дело не пошло дальше первой главы, которая была напечатана самостоятельно в 1958 году в нью-йоркском «Репортере». Набоков собирался подвергнуть капитальной переделке историю «первоначальных» близнецов Чанга и Энга (1811–1874), привезенных в Америку, разбогатевших и осевших в ней под именем «Бункеров», женившихся в самом деле на двух сестрах (и имевших от них нормальных детей), и умерших в трех часах один после другого, но при этом не было никаких попыток разделить их. Профессор Бойд остроумно заметил, что в этой начатой и оставленной повести Набоков похож на знаменитого жонглера, подбрасывающего в воздух и очень ловко ловящего одну-единственную чашку (впрочем, не порожнюю), между тем как всем известно, что он может с легкостью работать с прибором на шесть персон.