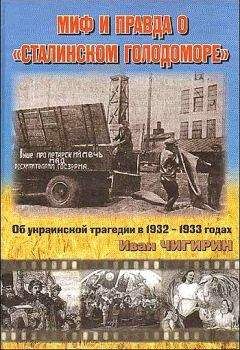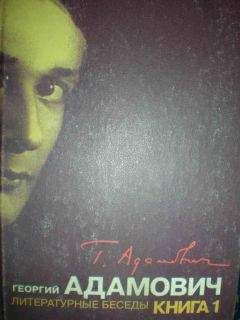Георгий Адамович - Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)
Зощенко же, так сказать, — «вне конкурса». Не то чтобы он был необычайно одарен. Нет, очень возможно, что Ильф и Петров силами ничуть не беднее его и что «распотешить» читателя они способны еще лучше, еще внезапнее. Они не менее его наблюдательны. Но в зощенковском смехе есть грусть, есть какая-то пронзительно-человечная, никогда не смолкающая, дребезжащая нота, которая придает его писаниям их странную, отдаленно-гоголевскую прелесть… Короче, Зощенко — поэт, а другие — просто беллетристы.
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ:
Второй том «Тяжелого дивизиона». —
«Кочевье».—
Селин и Андрэ Мальро
«Тяжелый дивизион» Лебеденко — книга, в короткое время ставшая популярной. Ее читают в России и у нас, в эмиграции. Недавно в одном здешнем литературном кружке была устроена «устная анкета»: какая советская книга за последний год вам больше всего понравилась? Роман Лебеденко оказался на первом месте.
Успех «Тяжелого дивизиона» заслуженный. В книге много недостатков. Но через условность и схематизм, без которых ни одно советское литературное произведение обойтись не может, в ней чувствуется живая мысль и настоящее знание людей. Кроме того, у Лебеденко есть дар видения, дар изображения: в длиннейшей веренице его героев, — солдат и офицеров, — каждый отличим от другого, без всякой назойливости в индивидуализации, как бывает у малоталантливых беллетристов, а по еле заметным, безошибочно-характерным чертам. Об этом «советском Ремарке» я сравнительно недавно писал. Незачем снова о нем рассказывать. Несколько слов только о второй части «Тяжелого дивизиона», которую прочесть мне довелось лишь на днях. Конечно, дарование видно повсюду, на любой странице, в любой сцене. Огромный том в четыреста с чем-то страниц, а читается он легко, с увлечением. Удивляет та же острая наблюдательность… Но волевая вялость, волевое безличье автора, которые давали себя знать уже и в первой книге «Тяжелого дивизиона», становятся во второй почти мучительными. В романе нет костяка, он разваливается на тысячи эпизодов. В конце концов, он сбивается в какую-то толчею, в которой вязнешь и тонешь. «Война и мир»? Да, Лeбеденко, по-видимому, желал написать что-то подобное. Не он первый, не он последний. Много уже мы читали таких бесконечных повествований, в которых все, казалось бы, совсем как у Толстого, — широта и плавность рассказа, эпическое спокойствие тона, огромное количество действующих лиц. Но «Войны и мира» не получилось. Авторы упускали из виду пустяк: то, что Толстой врывается в «действительность», как некий Бог Саваоф в хаос, все ломая, все опрокидывая на своем пути и строя новую вселенную с особыми судьбами и особыми законами… А они, его мнимые последователи, в жизненный материал доверчиво вглядываются, простодушно пытаясь как можно правдивее, беспристрастнее и точнее его изобразить. Но жизнь-то, по природе своей, женственна, над беспристрастием она смеется, она требует власти над собой, — и тех, кто не в силах ее обуздать, топит и губит.
Лебеденко не хватает решительности в выборе и в отборе. Пожалуй, — дара любить и ненавидеть. Оттого на его романе, в общем, все-таки замечательном, лежит какой-то сероватый налет. Двум-трем обязательным коммунистическим заявлениям или тирадам верить нельзя, да они и выпадают из романа. А сущность замысла на редкость рыхлая. Автору все безразлично. Он прекрасно людей изображает, но не хочет и может судить их, он не в силах пронизать их теми неумолимыми толстовскими икс-лучами, которые проникают и в душу читателя. Все это стало яснее во втором томе «Тяжелого дивизиона», – потому что расширение повествовательного русла требует и его углубления, а здесь дно оказалось довольно близко.
Обычная судьба «вторых томов» вообще. Начало превосходно, а дальше автор устает, сдает и думает только о том, как бы свести концы с концами. Не хватает дыхания, не хватает силы дочувствовать, договорить, дорисовать… Сколько примеров этому! Из советских книг разительнее всего пример шолоховского «Тихого Дона», где за блестяще–талантливым вступлением последовали главы бледные и порой совсем беспомощные (в особенности, третий том).
Кстати, позволю себе поделиться содержанием любопытнейшего письма насчет «Тихого Дона», Получил я его этим летом в ответ на статью о Шолохове. На днях же, косвенным образом, получил и подтверждение того, что в нем рассказывалось.
В Москве, будто бы, среди людей, причастных к литературе, упорно держится легенда, которую многие считают истиной. Шолохов — не автор первой части «Тихого Дона». Рукопись ее он нашел во время гражданской войны в сумке убитого офицера. Шолохов выдал «Тихий Дон» за свое произведение — и продолжил. Неудивительно, что между частями романа заметна некоторая разница.
Не имея никаких данных, чтобы судить о достоверности этого предположения, не могу высказаться ни «за» ни «против» него. Но для общего впечатления, оставляемого «Тихим Доном», характерно, что оно может оказаться правдоподобным. Достаточно и этого.
* * *
В «Кочевье», которое после дней буйного расцвета, когда на вечера его собиралось двести-триста человек и горячие прения затягивались «далеко за полночь», теперь снова все вошло, так сказать, в берега обычного эмигрантского литературного объединения, — устроили вечер, посвященный Селину и «Путешествию в глубь ночи».
Расцвет и упадок «Кочевья» не случайны. Общество это сделало ставку на советскую литературу. Года три или четыре тому назад его тенденция совпала с повсеместным, очень сильным интересом к этой литературе: тогда многие верили, что все свежее и юное, в литературном смысле, идет из России, что советская литература героична и величественна и что никакие цензуры, никакие диктатуры не в силах совладать с ее неудержимым ростом. Верили в кредит, но верили искренно. Руководитель «Кочевья», М. Л. Слоним, всячески эту веру поддерживал и утверждал, что для нее существуют реальные, незыблемые основания… А сейчас иллюзии рассеялись. Выяснилось, что советской литературе не так уж много есть что «предъявить». Россыпи оказались миражом. Конечно, осталось убеждение в талантливости и значительности нескольких советских писателей. Но исчез наивный интерес к ней, как к какой-то экзотике, сказочно богатой и неслыханно новой. В десять или двадцать вечеров все богатства оказались истощены, – а об «отображении Белморстроя» в художественном слове или о «роли литературы в посевной кампании» охотников рассуждать и говорить не нашлось.
Этим, вероятно, и объясняется, что приходится обратиться к таким явлениям, как Селин. Кстати, его удивительная книга принадлежит к тем, которые в русском сознании сразу воспринимаются как нечто «свое» (как «своим» был для нас, например, Мопассан и никогда не был и не станет Анатоль Франс; как своим стал для русской поэзии Бодлер, несмотря на всю его парижско-столичную, декоративную изысканность, и никогда не станет Виктор Гюго; дело, по-видимому, в подчеркнутой правдивости, в тоне, родственном русскому стремлению непременно говорить о «самом важном» и в каком-то пренебрежительном отношении ко всему, что не может быть под категорию «самого важного» или «самого правдивого» подведено; у Селина дело еще в глубокой его анархичности, в полном сожжении всех кораблей и, особенно, в той чуть-чуть хмельной безнадежности, которую русские считают своей исключительной монополией). О Селине много и долго спорили. Были голоса, утверждавшие, что славу его следует отнести на счет снобизма или случайной моды; но скорее всего само мнение это продиктовано особого рода «снобизмом», заранее считающим пустым все то, что имеет быстрый и шумный успех. Докладчик Г. Газданов высказал о «Путешествии в глубь ночи» несколько метких и острых мыслей.
В тот же вечер — частным образом — говорили и об Андрэ Мальро, только что получившем гонкуровскую премию. В сущности, этому писателю премия была не нужна: он был известен и, пожалуй, даже знаменит и до нее. Многие критики признают его наиболее даровитым из молодых французских беллетристов. Вообще, ореол необыкновенной, из ряда вон выходящей талантливости вокруг Мальро держится прочно и, значит, на чем-то этот ореол основан. Едва ли, однако, на книгах. Вероятнее, на личности писателя.
Я помню Мальро по нескольким его выступлениям в литературных собраниях. Один раз он говорил о Ницше, другой раз, кажется, о свободе, обществе и индивидуализме… Не то чтобы он высказывал в своих речах какие-то особенно глубокие суждения. Нет, но в каждом слове было «электричество», и во всем облике Мальро, с бледным, надменным лицом, с прозрачными и сияющими глазами, чувствовалась подлинная «священная» одержимость. После него выступали другие ораторы, говорившие разумно, дельно, трезво. Но их было трудно слушать. В хаотическом, отрывистом потоке фраз и восклицаний Мальро билось подлинное творчество, и оттого ему было «без волненья внимать невозможно».