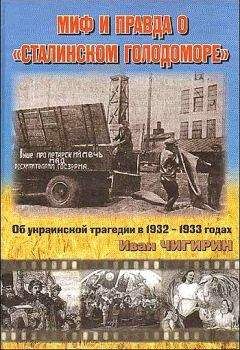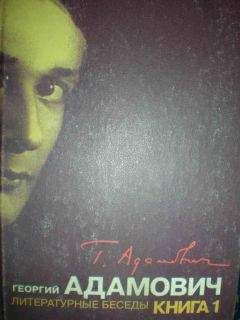Георгий Адамович - Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)
Но за два-три года что-то произошло. Начали, вероятно, сказываться результаты общей кремлевской политики. Стали появляться первые ростки той словесности, которая власти вполне угодна… Так или иначе, обнаружилось с совершенной несомненностью, что надежды были преувеличены. Величие не удалось. Не нахожу других слов, чтобы выразить впечатление от чтения множества советских книг за эти годы. Да, могло бы что-то быть… Но не получилось почти ничего. Как при некоторых болезнях, омертвела самая ткань мысли, и слова в этих книжках — и жизнь за ней бьется все беспомощнее и слабее, порой совсем затихая.
Сталин распространяет свое «планирование» на искусство и литературу совершенно так же, как и на хозяйство. По известному завету его предшественника, «литература есть часть общепролетарского дела». Кто руководит всем делом, тот, разумеется, управляет и отдельными частями его.
Еще до знакомства с первыми результатами сталинского опыта в литературе, история могла бы внушить нам пессимизм в отношении его. Действительно, никогда, нигде литература, насаждаемая сверху, по известной схеме, или с целью отражения какого-либо морального идеала, не давала ничего, кроме жалкого подобия творчества. Можно быть a priori уверенным, что литературы не создадут ни Муссолини, ни Гитлер, как не создал ее Наполеон. Возникнут новые академии, народятся новые художественные течения, наспех придуманные и наспех обоснованные, появятся какие-нибудь оды и трагедии, будто бы возрождающие древнюю простоту и красоту нравов, одним словом, расцветут пышным цветом всевозможные подделки на удивление простодушным современникам, ошеломленным всем этим бутафорским великолепием, — а через полвека окажется, что где-нибудь в тиши, в уединении была в это время написана книга, которая нисколько не совпадала с правительственными внушениями и в которой личная жертвенная энергия еще горит ослепительным светом над унылым официальным творчеством, лежащим в развалинах.
Но Сталину до истории дела нет. С ней он не считается. Ее уроки не в полной мере применимы к тому, что он делает. Во всяком случае, нужны особые оговорки.
Оговорка, основная и самая существенная, — в том, что в слово «литература» вложено в СССР новое, чуждое нам понятие. Это проделано было исподтишка, почти незаметно, и, вероятно, в самой России не все еще отдают себе в этом отчет. Между тем, это крайне важно. Как только это поймешь, так в судьбах советского словесного творчества все становится яснее.
Для нас литература — выражение или отражение духовного мира человека. Определение это может быть заменено другим, и я нисколько не настаиваю на его полноте или безошибочности, — но какое бы определение кто ни нашел, всякое будет содержать в себе приблизительно то же самое. Во всяком будет подразумеваться личность в ее отношениях к стихиям, к обществу, к неизвестному, к самой себе, — и передача всего этого в слове.
Для теперешнего советского писателя, тем более для критика, претендующего на влияние и руководство, литература есть одна из форм помощи и содействия «строительству». И только. Никакого другого значения литература не имеет. Помогла книга наладить производство на каком-нибудь Канстрое, — следовательно, она хороша. Не помогла — плоха. Другого критерия и другого требования нет. Канстрой может быть заменен весенним севом или чисткой комсомола, — но смысл остается тот же. Литература должна практически помогать власти в ее начинаниях, все остальное от лукавого. Это кажется чудовищным, даже невозможным на первый взгляд, — между тем, это так. Повторяю, только усвоив это, можно что-нибудь понять в жизни и настроениях советской литературы в наши дни. Только такой смысл имеет та пресловутая «перестройка», к которой, как в Каноссу, приходят один за другим советские писатели… «Перестроиться» и значит расстаться со всеми иллюзиями насчет возможности творчества за свой страх и риск, хотя бы и при наличии революционного энтузиазма и прочих добродетелей, хотя бы и в пределах разрешенных и одобренных тем. «Перестроиться» — значит окончательно смириться и согласиться на обслуживание очередных потребностей властей, сохраняя при этом вид, будто это делается добровольно, в результате полного растворения личного замысла в замысле коллективном.
Иначе вторжение плана в литературу было бы невозможно. Нельзя предоставить каждому фантазировать – машина остановится. Фантазирует в России только один человек. Другие по мере сил проводят его предначертания в жизнь. Литературе рекомендуется строго следить за собой, чтобы не заняться, по рассеянности, чем-либо посторонним.
* * *
Неправильно и несправедливо было бы, однако, все валить на Сталина. Неправильно было бы утверждать, что вся беда в том, что его план плох, а при ином план был бы благодать… Конечно, сталинский план прозаичен, сух и материалистичен, без всяких парений и туманов, и, приноравливаясь к нему, литература лишена возможности кого-либо обманывать насчет своих стремлений. Будь у советского плана другой характер, притворяться можно было бы дольше, успешней. Но вопрос только в длительности обольщения, а никак не в самом существе дела.
Замысел или мысль, исходящие снизу, — точнее, от отдельного человека, — могут стать общим достоянием. Но они сохранят при этом свою жизненную, неразложимую, неповторимую сложность, которой остальные люди — читатели или слушатели — подчиняются благодаря гипнотической силе творчества. Мысль, исходящая сверху и там же сразу рассчитанная на общую для всех приемлемость, может быть основана лишь на нивелировке, на игнорировании каких бы то ни было личных особенностей. В ней всегда чувствуется схема, в ней нет и не может быть жизни. В миллионах людей она выбирает только то, что есть у них несомненно-общего, и к этому общему обращается.
Литература при таком порядке вещей чахнет не только оттого, что ей вообще что-то внушается, ной оттого, что она обречена оставаться в рамках схемы. План, по самому существу своему, есть схема, и легко догадаться, что получается, когда он навязывается области, где все механическое должно быть исключено. В России литература становится механична потому, что только при этом она чувствует себя в безопасности: вольная трактовка темы неизбежно увлекла бы ее в «уклон». Это особенно видно на языке. Кто читает советские журналы, тот знает этот нестерпимый, мертвый, казенный советский язык, составленный не столько из комбинаций слов, сколько из комбинаций готовых фраз, всегда одинаковых, неизменно повторяемых. Да и слова одинаковые! Сказал о ком-то Сталин «головотяп»: через неделю не было статьи без головотяпа… Таких примеров сколько угодно. Мы возмущаемся, пожимаем плечами. Наше возмущение справедливо, конечно, но должно бы относиться не к языку, а к тому, что за ним. Обезличение, схематизация языка есть явление глубоко закономерное в теперешней России, его не могло не быть. Фраза сколько-нибудь индивидуальная сразу выделяется в советском тексте, сразу кажется подозрительной: что ему надо, этому «личинку», отчего не хочет уложить он свою мысль в готовую форму, уж не такова ли у него и мысль, что ее в дозволенные формы не уложить. И так далее, и так далее. Действительно, – если мысль общая, чем же для нее плохи общие слова? План требует языкового штампа. Проникновение его в литературу, называемую художественной, приводит к таким же результатам и в ней.
Какой огромный вопрос, в общем, если взглянуть глубже и дальше, какой клубок, который не кончишь распутывать, если только потянешь за одну ниточку! Не решаюсь сказать, боюсь опрометчивости и легкомыслия, — но, право, похоже на то, что только при «проклятом капитализме» и возможно искусство. По крайней мере, теперь, в наше столетие, после потери былого, общего религиозного идеала. Весело, должно быть, маршировать с поднятой рукой, скалить зубы и кричать «Heil!», но в тот момент, когда рука поднята только потому, что ее поднял «вождь», искусство умирает для человека со всем своим миром иронии, лиризма, противоречий, ответственности, подвига, риска. У комсомольцев то же, конечно. То, что любой план предлагает под видом литературы или искусства, было бы правильно назвать иначе.
< «ДРЕВНИЙ ПУТЬ» Л.ЗУРОВА. –
«КАК СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН» И. ИЛЬФА И Е.ПЕТРОВА >
Не совсем ясно, что хотел сказать Л. Зуров, назвав свою книгу «Древний путь». Разумеется под всякую расплывчатую метафору можно подставить какое-то содержание. Так и здесь — можно предположить, что речь идет о том «древнем пути», которым человек, после разных мытарств, обольщений и увлечений, возвращается домой, к своей родной земле; или о возвращении к первобытной вере; или даже о возрождении того состояния, когда человек человеку был волком и все раздоры решались кровью… Любое толкование пригодно. Автор не склонен к отчетливости, и слегка туманное название романа характерно для него. «Древний путь» развивается почти без плана; в повествовании этом нет, в сущности, ни начала, ни завершения, и его с тем же правом можно признать законченным произведением, как и первой главой какой-то огромной эпопеи.