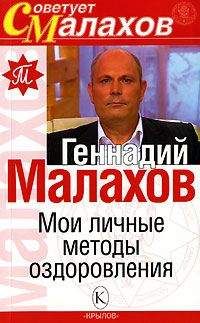Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
6.
Imagines, образы божества, олицетворенного создателем книги, и ее обитателей, служат напоминанием о его созидательном духе, проникающем из его недоступного для них мира в щели и окна их книжного мирка, — и вот в такое окно вылетит из книги ночная бабочка — Павлиний Глаз, в то самое время, что Цинциннат, тоже как бы покидая роман, слышит за его чертой голоса себе подобных. Кажется, впрочем, что эти существа населяют следующий роман Набокова, «Дар», в конце которого его герой говорит, что хочет перевести «по своему» кое-что из «одного старинного французского умницы» (Пьера Делаланда);{11} я думаю, что это и есть «Приглашение на казнь», книга, которая в сущности своей есть сновидение, объятое другим сновидением, «когда снится, что проснулся» («Ultima Thule»), так что трудно сказать, то ли Федор снится Цинциннату, то ли Цинциннат Федору, или может быть оба они мерещатся кому-то третьему. Во сне страдания действительны, но смерть иллюзорна. Строго говоря, во сне умереть нельзя. Афоризмы Делаланда о смерти начинают попадаться в «Даре» в самом его конце (Александр Чернышевский при смерти), зато в «Приглашении на казнь» эпиграф из его главного сочинения («Трактат о Тенях») украшает вход в книгу: «Как сумасшедший воображает, что он Бог, так и мы думаем, что смертны».
Данте в Convito говорит, что «нам непрерывно доступен опыт безсмертия нашего в вещих снах, а сии были бы невозможны, когда бы не было в нас безсмертного начала». Эта именно идея и движет «Приглашение на казнь» от эпиграфа Делаланда до конечной строки.
Ужас и благость
1.
Два ранних разсказа Набокова стоят в такой совершенной философической оппозиции друг к другу, что сопоставление прямо напрашивается. Один назван «Ужас», напечатан в 1927 году и много позже переведен на английский язык под названием «Terror» и помещен в сборник «Истребление тиранов». Там солипсист-повествователь описывает приступ острейшего terror alienatus a se, патологического чувства страшного отчуждения от всего на свете, в том числе и от себя. Симптомы этого состояния прогрессируют от мгновенного, многих иногда посещающего ощущения странности себя самого, особенно в зеркальном отражении, до внезапного, прежде небывалого и пронзительного сознания своей смертности. После четырех безсонных ночей подряд его состояние затвердевает в одичалое представление и восприятие окружающего мира «как он есть», т. е. как он представляется больному — мир без смысла и без души, где вещи и существа лишены всякого значения и никак не соотносятся между собою, так что всякое человеческое лицо, будучи полностью остраннено и лишено узнаваемого, привычного, изначально усвоенного образа, кажется устрашающим набором выпуклостей, впадин и отверстий. Любовь к умирающей женщине причиняет повествователю боль, которая выталкивает его из состояния ужаса, но он все-таки боится, что следующий такой приступ неминуем и что он его не перенесет.
Другой разсказ, «Благость», написан за три года перед тем, и его Набоков не перевел и не включил ни в один из английских сборников. Здесь сюжета еще меньше, чем в «Ужасе». Это разсказ скульптора, который в холодный день ждет любимую женщину у берлинских Бранденбургских ворот. Их связь оборвана, по-видимому, невозстановимо, но она согласилась придти на это последнее свидание. Он проводит час в условленном месте, наблюдая, — сначала машинально, потом с нарастающим интересом и сочувствием, — поток прохожих, незнакомых ему людей, и особенно внимательно старушку, торгующую с лотка путеводительными картами и почтовыми открытками. Покупателей у нее нет, его любимая не приходит, и все окрашено в табачный цвет тоски, но тут скульптор видит, как сторож подает старушке чашку кофе с молоком через окно своей будки. Тогда в нем ширится теплое чувство общности и даже родства со всем, что есть. «Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась…» Благодарная старушка дарит сторожу несколько открыток, и наш разсказчик опять, несмотря на свое горе, испытывает прилив со-чувствия и само-забвения, и ему кажется, что он понял
нежность мира, глубокую благость всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, — и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный нами.
Это поразительное описание. Неудивительно, когда такое острое сочувствие «всему сущему» охватывает счастливого влюбленного, — эгоизм такого распространения своего частного восторженного чувства на окружающих прекрасно показан у Толстого, когда у него женится Лёвин. Человек в таком положении воображает, что всех «любит», хотя и ничего не замечает вокруг, кроме себя и своего предмета. Напротив, для несчастного любовника весь мир обыкновенно окрашен в пегие цвета уныния (тот же Лёвин, когда княжна ему отказала). Герой Набокова несчастлив, оставлен своей любимой, знает, что ждать больше нечего, она не придет. И его проницательность тем особенно изумительна, что его любовь к окружающему безкорыстна, не самоугодлива, не щедра на чужой счет, — я любим, и оттого делюсь этой любовью с каждым, — но есть как бы следствие его самоотречения, так что каким-то образом его нежность к старушке с ее кофе есть произведение его любви к не пришедшей женщине, к которой он в продолжение всего повествования обращается во втором лице. И, резко отличаясь в этом важном пункте от восторженного Безухова или Лёвина, наш разсказчик делается невероятно наблюдателен, как бы впивая всякую подробность, доступную чувствам.
Да и нельзя сказать, что он несчастлив. Нелюбимый, но любящий («я умел только лепить и любить»), скульптор оттого-то, может быть, и счастлив, что, согретый добродушием уличной сценки, он теперь видит все вокруг себя словно обволокнутым любовью: и морщинистое лицо лотошницы, и сморщенную пенку, свисающую с края чашки, и вагон трамвая, в котором он едет домой, и вообще всякое встретившееся впечатление. Противоположность «Ужасу» здесь явная и полная, и в ней заключается, может быть, одно из глубоко зарытых верований Набокова, которое трудно добыть непосредственно из его художественных сочинений, но можно вывести при помощи разного рода вспомогательных построений, а также позднейших его предисловий, послесловий и комментариев.
Набоков, надо полагать, верил в исходную благость творения, в неистребимую доброкачественность земного бытия и в конечную благость его предназначения. И вера эта, не поколебленная превратностями жизни и характера, есть подлежащее всех его романов — первый из которых не был написан и назывался «Счастье», а последний, недописанный, в черновых вариантах назывался «Dying Is Fun», что при желании можно по-русски приблизительно передать как «Умирать не страшно».
В «Ужасе» внезапное изъятие любви превращает мир, на взгляд обомлевшего наблюдателя, в чудовищный паноптикон пустых оболочек, мертвых личин и всякой «мерзистенции», как сказал бы какой-нибудь частный поверенный у Чехова. Мир этот безобразен, обезображен. Любовь как упорядочивающая, образующая и движущая сила творит образы по своему подобию, созидает облики, отвечающие непостижимым парадигмам благовидности и благостности. «Красиво то, что радует глаз», — сказал Фома Аквинский, но ничто не радует измученного ужасом и безсонницей страдальца, покуда любовное сострадание не возвращается в его душу в конце разсказа. До тех же пор он видит вещи и лица сбросившими свои категорические тождества, так что ничто не принадлежит своей семье, и, таким образом, ничто не может быть узнано. И в то же самое время, в этом до безумия правильном противоречии все личные различия исчезают и все лица похожи друг на друга, как черепа.
Итак, в одном случае мы видим избыточную любовь, благодаря обилию которой все на свете улыбается несчастливому, казалось бы, скульптору, а в другом крайнее ее умаление (но не полное отсутствие, при котором никакая жизнь невозможна), и тогда все вокруг повествователя отталкивает его, отвращает его и отвращается от него. Этот ужас, довольно неудачно именуемый «экзистенциальным», возникает от созерцания твари облупленной, лишенной образа и покрова, понимаемой механически (а не органически), невдохновленной, непросвещенной, словно человек уже осужден и проклят и брошен во внешнюю тьму. Эта обнаженность вещей в «Ужасе» весьма характерна для Набокова. В «Пнине» хорошо осведомленный разсказчик N. сообщает нам о прямой и обратной связи смерти и разоблачения. В «Благости» же, напротив, любовь пеленает всякое явление, всякую подробность, от пасмурной и холодной погоды до кисеи молочной пенки, облачает всякую вещь в одежды, специально для нее скроенные и одновременно соразмерные и сообразные со всеми другими. Среди других причин, по которым Набоков питал такое неизбывное и искреннее отвращение к фрейдистике, одной из менее очевидных была ее страсть к разоблачению и расчленению («анализ»), что неизбежно ведет к душевредительству, к приобретаемому на всю жизнь пороку сердца; гуру-авгуры безсознательного и подсознательного совершенно пренебрегают любовью в понимании дантовского скалолаза или набоковского ваятеля. Фрейдизм принимает и представляет жизнь именно так и такой, как и какой ее видел бедный повествователь «Ужаса»: оголенной и разсеченной до мозга костей (увешанных гроздьями «комплексов»), безформенной и безликой, запущенной и омерзительной.