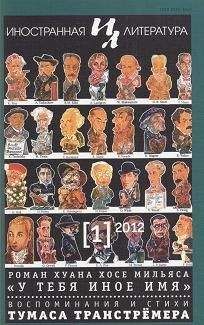Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
После такой насыщенной аттестации жены, видимо, все читательские симпатии должны перекочевать на сторону героя. Но в таком нагнетении очевидны натяжка, искусственность, а также откровенное неблагородство. А объясняется это, и вполне убедительно, не чем иным, как… физиологией. Под всеми утонченными восторгами по отношению к более юным представительницам женского пола и неприязнью по отношению к «женам» кроется, к сожалению, мысль простая, как мычание: найти бы партнершу посвежее, помоложе, попростодушнее. А когда герой обуреваем козлиным восторгом, то и она, какова бы ни была на самом деле, кажется и умнее, и тоньше, и идеальнее. Тем более что с ней не нужно вставать затемно, чтобы отвести в детсад ребенка, ездить по больницам, врать о срочных вызовах на работу, а можно поужинать в ресторане, посетить выставку, поговорить о прекрасном, — в общем, культурно провести досуг. И в измученной бытом душе рационального героя наступает закономерное просветление, сопровождающееся склонностью к философии. Мелкие коммунальные чувства раздражения и неприязни к женам, делающим аборты (мотив, переходящий из романа в роман!), не понимающим своих талантливых мужей, переполняют утонченных героев Гангнуса, Гусева, Киреева. Благородные мысли и чувства достаются юным возлюбленным. Но поверить в это благородство уже как-то и затруднительно. Не может человек быть мелким и кляузным — по понедельникам и благородным рыцарем — по пятницам.
Любовь для русского писателя была — традиционно — тем главным нравственным критерием, которым проверялся герой, проверялись его общественная дееспособность, характер и сила личности. Традиция эта живет, как бы ни изменялась действительность — а она, увы, изменяется, поэтому точка зрения тех писателей, с которыми я спорила, имеет под собой определенную среднестатистическую почву. Однако литература — не статистика, а реальная сила, воздействующая на нее. Любовь в русской литературе являла собой онтологическую силу, мобилизующую и раскрывающую принципиально лучшие, высшие силы человеческой личности. Любовью к женщине проверялась любовь к истине, матери, ребенку, жизни. И если две «любви» — любовь к женщине и любовь — благословление жизни — в герое разъединялись, то трагический исход был неизбежен. Столь нравственно неустойчив и «парадоксален» литературный герой именно потому, что ни его, ни его творцов даже не посещает мысль о том, что любовь неразрывно, кровно связана и болью и состраданием — состраданием не только по отношению к «объекту», а и по отношению ко всему миру, окружающему его. «Я взглянул окрест себя…»
Пора бы и поглядеть.
1984
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Герой повести В. Катаева «Растратчики», главный бухгалтер некоего учреждения, человек исключительно педантичный, но с неожиданно открывшейся склонностью к авантюрам, в одном из великосветских романов прочел следующую фразу: «Граф Гвидо вскочил на коня…» «Сам великосветский роман, — пишет автор, — года через два забылся, но жгучая фраза о графе навсегда запечатлелась в сердце Филиппа Степановича. И что бы он ни видел впоследствии удивительного, какие бы умные речи не слышал, какие бы потрясающие ни совершались вокруг него события, герой думал: „Эх вы, а все-таки далеко вам всем до графа Гвидо, который вскочил на коня, дале-ко!..“ И, как знать, может быть, представлял самого себя этим великолепным и недоступным графом Гвидо». Повесть «Растратчики» написана в 1926 году. Великосветский роман о графе Гвидо, надо полагать, создавался еще в XIX веке. А граф Гвидо жив до сих пор. Пролетают десятилетия, появляются новые города, сменяют друг друга целые литературные направления, а граф неувядаем.
Откуда подобная жизнестойкость? Пока чувствительное сердце читателя будет сладко замирать от «жгучей фразы» о графе, а нетребовательный издатель — оплачивать его маршруты по дорогам родимой словесности, до тех пор он не исчезнет со страниц нашей прозы.
Романы из «великосветской» жизни составляли основу мощного потока так называемой «бульварной» литературы, отличающейся ярко выраженной эстетикой, определенными принципами, которыми руководствовались и руководствуются отечественные ее производители. Не ставя целью определить точные жанровые «габариты», попробуем наметить лишь главные характерологические качества. Это не так уж сложно. Темы, сюжетные повороты, герои такой литературы свободно поддаются каталогизации. Прежде всего: необычная красивость изображенной среды, экзотичность ситуации. Эффектность.
Как говорится, красиво жить не запретишь. И писать — тоже. Обычная повседневная жизнь тут не «проходит». Нужны острые ощущения. Экстремальные условия. Герой-супермен. Катастрофа или происшествие, в котором замешана женщина. И всенепременно — мораль. Нравственность и еще раз нравственность.
Герой-супермен может перебрать десяток быстрых, ни к чему не обязывающих увлечений, но в конце концов автор обязательно пригвоздит его к супружескому ложу. Или герой совершит еще какой-нибудь высокоморальный подвиг. «Чтобы приличие боролось с увлечением» — так кокетливо, но точно сформулировала этот принцип некогда славная, ныне забытая поэтесса Е. Ростопчина, о стихах которой Белинский писал: «В заколдованном кругу светской жизни». Где же сейчас эту «светскую жизнь» обнаружишь? Не в конторе ведь, не в Бирюлеве либо Чертанове. Попробуем отправиться на шикарный горнолыжный курорт. А вот и «жгучая фраза»: «…он чмокнул губами и вытянул их в сторону великолепной блондинки, лакавшей глинтвейн в обществе трех здоровенных барбосов». Образ блондинки по ходу действия обогащается все новыми и новыми характеристиками: «очень хороша, для меня даже слишком: на ней итальянский костюм „миранделло“ — эластик на пуховой подкладке, который не купить и за мою годичную зарплату». Это героиня № 1 (по именам лучше называть не буду, все равно не запомните). Героиня № 2: «Само изящество и очарование: сапожки на высоких каблучках, джинсы, кожаная куртка и большие голубые глаза… Неплохо приоделась, раньше она о таких тряпках и не мечтала». Достаточно? Но тут в повествовании появляется героиня № 3 — невеста нашего героя, от лица которого идет повествование: «стройное, неплохо упакованное в джинсовый костюм создание, со стандартной мальчишеской челкой и утомленным с дороги лицом — не супер, на четверку в лучшем случае».
Все эти героини из повести В. Санина «Белое проклятье», а представляет их сам герой, Максим Уваров, человек с экзотической профессией — лавинщик. Он делит бедное отдыхающее человечество на «элов» (элиту), «фанов» (фанатиков) и «чайников» (в расшифровке не нуждается), он не прочь дать в морду непослушному туристу («можно и нужно бить лихачей на трассах, это помогает им глубже усвоить правила техники безопасности»), он шутит, спасает и предостерегает, награждает прозвищами и эпитетами («красивое, уверенное в себе могучее животное»). В конце повести его поджидает, как это и положено в подобных сочинениях, благополучное устройство жизни с героиней № 3, которая «не супер», но для жизни лучше любой красотки (машина, квартира в Москве, уравновешенный характер); что же касается героини № 1, той, что была так «сногсшибательна в туго обтягивающем красном эластике» («Какие глаза, щечки, зубки! Так и просятся восточные сравнения — бездонные озера, персики, жемчуг»), то, сколь сногсшибательная, столь и своенравная, она попала-таки в лавину и погибла — «на меня в немом изумлении смотрят голубые глаза Катюши».
Эта мелодраматическая история с легко усваиваемой моралью (надо слушаться инструкторов и не надо очертя голову лезть на опасные участки) по своей содержательности напоминает известные проповеди типа «не разводите костер в лесу, это может привести к пожару». Только место одной строчки здесь занимают восемьдесят пять журнальных страниц.
Можно представить себе и новое произведение, написанное на тему популярного железнодорожного плаката «Сохранишь минуту, потеряешь жизнь». Если бы роман Толстого «Анна Каренина» был написан с профессиональной точки зрения железнодорожника, то Вронский мог бы сказать о погибшей Анне примерно так, как говорит Максим о Катюше: «Ты хотела только любить и смеяться, а дождалась протокола…» Но, видимо, в эпоху Толстого железнодорожная тема не была столь общественно значимой.
Л. Выготский замечал, что искусство относится к действительности, как вино к винограду. Перефразируя Выготского, о прозе, пользующейся приемами, о которых мы говорили выше, можно сказать, что она относится к действительности, как к натуральному винограду относится таинственное по происхождению плодоягодное. Художественное преображение жизни здесь вытесняется жизнеподражанием. Нельзя не отметить еще две жанровые особенности такой прозы — ее избыточную информативность (какими только сведениями о горах, лавинах и лавинщиках не снабжает нас автор) и ее апелляцию к явлениям, неизменно привлекающим массовый интерес. При этом само явление, естественно, снижается до уровня потребителя. И «Володя Высоцкий», и «Окуджава» присутствуют в повести в качестве необходимых элементов массового «духовного дизайна»: «…как пел Володя Высоцкий. Володя — потому что мы были знакомы и на „ты“, он жил у нас месяца два… Какой талантище!»