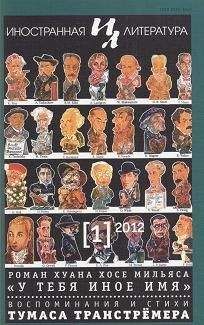Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
Но увиденная Вампиловым трагичность положения Зилова и ему подобных — а вместе с героем он сумел разглядеть проблемы, вставшие перед поколением, — осталась за пределами художественных возможностей и социального темперамента писателей, принадлежащих именно тому, изображенному Вампиловым поколению; а духовную катастрофу Зилова подменила в литературе активная борьба за выживание, сопровождаемая эмоциональной импотенцией. Именно поэтому, видимо, проверка героя на жизнеспособность идет теперь не через любовь (а чувство к Ирине было проверкой Зилова), а через отношения в конторе, служебные интриги, комфортабельное устройство быта.
Парадоксальность в изображении героя — чрезвычайно заманчивая вещь. Альтист Данилов, например, даже одновременно существует в двух ипостасях — его парадоксальность четко обозначена В. Орловым: он «гуляет» между «демоническим» и «человеческим» состоянием, а его любовь и привязанность делят две женщины — романтически изображенная портниха и сатирически заземленная Клавдия, цепко схватившая в свои руки и настоящее, и «хлопобудущее». Раздвоенный Данилов колеблется, уступает Клавдии, покорно выполняет ее поручения. Старохатов из романа В. Маканина «Портрет и вокруг» — и мерзавец, и благодетель. С какой точки зрения посмотреть.
Принципиальное «двоемерие» парадоксального героя может, однако, реализоваться и через двойную социальную характеристику героя. Таков Иннокентий Мальгинов из романа Р. Киреева «Апология» — специалист по французской филологии, ставший отличным пляжным фотографом, «лидером южной школы».
Он тоже сродни вампиловскому Зилову, пересыпающему свою речь парадоксами. Мальгинов любит, когда его любят, и любит эффектно порассуждать о чувствах, а в рассуждениях проявляет такое «подполье», что уже становится как-то неуютно от витийственных разглагольствований и самообнажений.
Да, что еще очень любит герой-парадоксалист: не только защититься с помощью этого самого парадокса, но и самообнажиться, так сказать, «заголиться». Он как бы спрашивает — ты, читатель, думаешь, я нехорош, я мерзок, я погряз в недобродетели? Так вот тебе, получай, я еще хуже… И автор, и читатель вроде бы и пожалеть такой надрыв должны. Вот оно откуда, словечко-то — апология.
Идет защита «современного среднего человека» с его парадоксами вместо чувства, с его внутренней неустойчивостью. Герой любуется собой — даже обнажаясь; автор сочувствует и приглашает к сочувствию читателя. Так что парадоксален не только сам герой, парадоксальна и позиция автора по отношению к герою. Высокомерно оставив белую и черную краски профанам, современный художник слова проявляет чудеса изобретательности, дабы увести героя от наказания и трагедии. Он может позволить судить героя, но осудить и наказать — ни за что. Более того: автор пытается убедить читателя, что парадоксалист есть просто средний обычный человек.
Прислушаемся: современный средний человек… Есть в этих словах какое-то оправдание, защита. Чего с него взять, если средний? Ну и что, погибли женщина и нерожденный ребенок, но включается голос самосохранения, спасительный инстинкт срабатывает: «Твоей вины тут нет. И хватит об этом».
Средний — это однокоренное слово со словом «среда». Помните, у того же Достоевского, возмущение из-за кивка на среду — мол, «среда заела»? Звучит, однако, голос предполагаемого оппонента: человек-то средний — «как все, как все…» (в песенке А. Пугачевой) — чего уж его слишком… А. Вампилов по этому поводу придерживался совсем противоположного мнения: «Среда — это мы сами. Мы, взятые вместе. А если так, то разве не среда каждый из нас в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест, пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и значит, каждый может спросить себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?»
Среда — не оправдание, средний — не защита. «Спросить с себя со всей строгостью»! Но Киреев подбрасывает своему «парадоксалисту» эпитет — невинный (Иннокентий).
Помните? «Миру ли провалиться, или мне чаю не пить? Пусть уж весь мир провалится, а я чай пить буду!» Современный парадоксалист откровенней: Иннокентий Мальгинов берет и пьет этот самый чай в тот момент, когда мир проваливается или когда он дает «любимой» яд, да еще успевает сравнить этот яд с шоколадом.
Бедный Пушкин! Как он устарел со своим Сальери, глубоко переживающим преступление!
Да, кстати, о Сальери. Его вспоминает тридцатисемилетний ученый, без пяти минут доктор наук Антонов из повести В. Михальского «Холостая жизнь» в связи с рассуждением о ближайшем (заметьте!) друге: «И он не Моцарт, и я не Сальери, до Сальери мне так же далеко, как ему до Моцарта — один был высокий профессионал, другой гений». Друг — уже доктор наук, по-видимому, очень талантлив. Однако Антонов успевает — с неподдельной нежностью! — сообщить нам, что он в личной жизни «воришка», «жулик»: «На редкость уживаются в Игоре мелкое жульничество, склонность к копеечному предательству и в то же время верность в серьезных, важных делах. Что и говорить, родная душа, другой такой нет и, наверное уже не будет».
Перед нами — те самые талантливые и сильные молодые люди, которые отнюдь не чужды того, что называется «карьера» (о которых Р. Киреев писал в своей публицистической статье в защиту «хорошего» карьеризма). «Герои нашего времени» хватки, напористы, в высшей степени трудолюбивы. Но почему Антонов так душевно вял, хотя здоров и крепок физически (Михальский это физическое здоровье героя и его «потенцию» — опять-таки вслед за Вампиловым — постоянно подчеркивает)? Только ли оттого, что талантливый Антонов стал заниматься не самым любимым делом, «начал жить на чужой улице»?
Слова «жизнь», «жить» пронизывают всю повесть. Да и название-то говорящее — «холостая жизнь». Жизнь, проживаемая без любви и надежды (парадокс: женщину, близкую нашему герою и все-таки не любимую им, зовут Надежда):
«…жизнь летит так, что только ветер свистит в ушах».
«Но что хорошего, что радостного в его жизни?»
Антонов живет «без радости и печали».
«В погоне за удовольствиями» — это уж слишком сильно сказано автором и мало соответствует тексту. В том-то и состоит парадоксальность характера этого персонажа, что он вроде и гонится за удовольствиями — и не получает от них, достигнутых, радостей; и мечтает скорее стать доктором наук — и замечает о своей работе: «Все это чушь собачья, соединение того, чего нет, с тем, чего быть не может…» В общем, «когда начинал, была уверенность, что это абсолютно необходимо ему лично и важно для Жизни, а сейчас, к концу работы, было ясно, что для Жизни с большой буквы его работа практически не имеет никакого значения, да и лично ему она нужна непонятно для чего… Антонов не чувствовал удовлетворения. Сейчас, как никогда, при внешней благополучности своих дел, он был близок к полному истощению… жизненных сил, и ему было совершенно безразлично, защитит он докторскую или нет».
Но насчет защиты — это лишь минутная слабость. Через некоторое время он «весело» подумает: «Нет, черт возьми, есть у меня хватка, есть смекалка, есть звериная цепкость, ум, интуиция, нахальство…»; «Ощущение собственной мощи распирало его…»
У Антонова тоже есть свое убежище, свое маленькое «подполье» — это (упаси боже, не любовь) его отношения с женщинами. И есть свой «идейный парадокс», которым он свою жизнь и свои эксперименты оправдывает. Заметим, что герои-парадоксалисты — вообще все как на подбор философы. А в конкретных наблюдениях их и оценках немало точного.
Тем самым, несмотря на свою собственную нравственную неустойчивость, герой постепенно приобретает в глазах читателя весомый моральный авторитет — ведь именно ему автор передоверяет нравственную оценку других героев и жизненных ситуаций. Получается, что герой как бы обладает двойной моралью, двойным счетом — для себя и для других. Беспощадное к другим зрение направляется героем внутрь самого себя в исключительных случаях; да и то всегда находятся смягчающие обстоятельства.
Самооценка «парадоксального» героя за счет осуждения им окружающей его среды завышается. Но, в отличие от Вампилова, который, сожалея о человеке, относясь к своему герою как к фигуре социально неприкаянной, тем не менее отнюдь не снимает ответственности с личности, критически оценивая ее, Р. Киреев реабилитирует своего героя и героев близких ему по духу прозаиков, называя их даже… «жрецами любви». «Любовь не вырождается, она просто меняет своего активного носителя», — утверждает Киреев. Итак, мужчина — «жрец любви» и «активный носитель». А чуть раньше Киреев заявил, что разум, ratio, вытеснил у мужчины любовь. Так какому же из этих наблюдений верить? Р. Киреев пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит о том, что души современных преуспевающих «банкротов» «обдираются в кровь», продираясь к любви. Если б они «обдирались в кровь», то не было бы и «банкротства». Дело как раз в том, что если душа холодна, если она роботообразна, то никакая любовь к ней «не пристанет». Но свято место пусто не бывает; «сорокалетние» прозаики, как правило, люди начитанные, они знают: что-то должно на этом месте произрастать! И расцветают пустоцветом стимуляция и симуляция чувств; идет искусственная «возгонка» любви; у В. Гусева в «Спасском-Лутовинове» появляется неземная «линейно-лилейная» возлюбленная — Солнце, которой автор стремится «привить» чувство к герою; герой «Подготовительной тетради» Р. Киреева, уложив на раскладушку жену соседа и благодетеля, тоже пытается воспарить душой, на месте которой, к сожалению, цитаты из умной прочитанной классики — от Монтеня до Достоевского; герой романа А. Гангнуса «Человек без привычек», пройдя через несколько раскладушек, обретает чувство родства и близости к молодой и робкой, тонко чувствующей (не то что стерва жена!) Свете. Как правило, все эти духовные «обретения» падают на период после расставания с ворчливыми, неряшливыми, невоспитанными и неумными женами, которые всячески компрометируются в текстах вышеперечисленных произведений, дабы высветлить благородство духовного облика героя. Так, А. Гангнус заставляет бывшую жену героя: 1) изменить мужу; 2) не любить его родственников; 3) быть негостеприимной и бездарной; 4) писать глупые письма, в которых сочетаются следующие выражения: «Ты моя единственная любовь» и «Ты омерзителен, Орешкин. Ты жаден, непорядочен, лжив, хоть и рядишься в правдолюба».