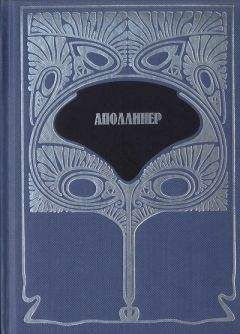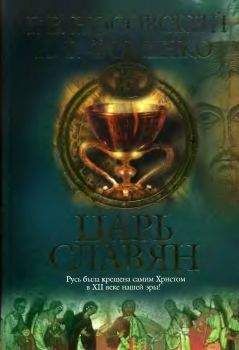Мариэтта Чудакова - Новые работы 2003—2006
В последние сталинские годы явно убывает из слышимого обихода сохранявшая очертания литературного языка разговорная речь средней русской интеллигенции (собственно, в немалой степени вместе с ее носителями – «повторниками», т. е. арестованными повторно), где книжность (латинские поговорки etc) переплеталась с элементами народной образной речи. Ее все больше замещала усредненная, стертая речь, пропитанная элементами городских (вплоть до блатного) жаргонов и бюрократического языка – к нему как бы терялась чувствительность, как и чувствительность к просторечной грубости в сугубо официальной речи.[542] А в то же время шло сужение синонимических возможностей – иначе чем объяснить широкое внедрение в речь образованных людей, скажем, глагола общаться одновременно с жалобами на невозможность его заменить (это относится и к автору данной работы)? Или постепенно – все более неумеренно широкого употребления наречия и прилагательного нормально, нормальный?
Нечто близкое (при разных исходных позициях) происходит с выходцами из деревни. Состоявшаяся в 1920-30-е годы замена их образной крестьянской речи «обезьяньим языком» начала сложно сказываться и на речевом поведении других слоев населения: в условиях значительной перемешанности населения эти слои – взаимопроникаемы; «разноязычные» люди вынуждены к средневековой коммуникации, и сохранение «правильной» речи ее затрудняет. Сказывалось и отсутствие гражданского общества, а значит – площадок для свободных дискуссий и, соответственно, условий для выработки индивидуальных манер публичной речи.
Записи исследователей разговорной речи, делавшиеся в 60-е годы главным образом среди людей с высшим образованием, зафиксировали, среди прочего, уродливые словообразования – «У вас хорошая картошница…» (о женщине, продающей «с доставкой на дом» картошку), «Меня губит бесстолье. Я без стола не могу работать». Цитируя эти примеры, мы в 1972 году в осторожных формулировках подцензурного печатного текста пытались передать свою оценку ситуации.[543]
Оторвавшись от живой образности народной речи, этот речевой пласт сторонился и заведомо официозного, «хозяйского» слова, идеологическую и, возможно, эстетическую чуждость которого носители среднеинтеллигентной речи с середины 50-х достаточно хорошо ощущали. Это отличило их от вышеупомянутых носителей городского просторечия, скорее стремившихся к нему притулиться, – именно в этом их стремлении и кроется, как уже говорилось, «разгадка» канцелярита.
IХ. Ирония и мат
1
Стандартизация, остановленность публичной советской речи, ее категоричность, императивность, непреложная авторитетность – при нараставшем ощущении идеологической выхолощенности (еще одно из значений зафиксированной Пастернаком «пустоты») и чуждости «обычным» носителям русского языка – вело к отталкиванию от нее с большой силой. И находящаяся на другом полюсе непубличная разговорная речь приходила при этом в столь хаотическое состояние, что это заставило, как мы видели, правомерно заговорить о другой языковой системе.
Литературный язык в течение нескольких десятилетий применения его в публичной сфере получил такой сильный отпечаток официозности (= советскости), что с середины 50-х людям уже претила мысль об использовании его в разговорной речи в домашнем и дружеском кругу.
К этому же времени (мы имеем в виду 50-е годы) уже давно была потеряна живая связь носителей литературного языка с письменными источниками предшествующей культуры – философскими, публицистическими текстами, и даже в немалой степени – с классической литературой. Эта связь разрывалась еще в школе благодаря языку и методологии учебников литературы (продемонстрированному в книге Чуковского).
Размывание же культурной почвы, переставшей подпитывать языковые ресурсы, привело к размягчению той оболочки, которая заставляет образованного человека держаться в процессе любого общения в пределах литературной речи.[544]
Возникла проницаемость перегородок между просторечием – и нормативной речью. Ведь уже немалое количество лет предполагалось, что все мы – в первую очередь советские, не разделяемые на сословия и даже слои. Советское заполнило и обволокло все.
Начиная с середины 50-х, в годы «оттепели», окаменевшие синтагмы, по-прежнему занимавшие свое место в публичном официозном языке, но омертвевшие, толкали носителей языка, тонко ощущавших это изменение, к смазанному, с полуироническим оттенком их употреблению – полупубличному, а затем и публичному. Советизмы заражали речь, не давая от себя освободиться. Могут возразить – ироническое употребление советизмов не с оттепели началось: еще в 1934 году Ильф и Петров вписывали в свой текст лозунги: «Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание», «Позор срывщикам кампании борьбы за подметание».[545] Но, во-первых, интенция была иной: их ирония была (должна была быть, по мысли авторов) конструктивной, они надеялись улучшить советский мир. А во-вторых, это было в немалой степени их (вслед за Михаилом Зощенко, хотя и в другом ракурсе) литературным открытием – их читатели этой иронией не располагали.
Только во второй половине ХХ века эта ирония, во-первых, залила немалую часть «оттепельной» литературы – сплошь и рядом без специальной художественной функции,[546] предваряя этим стёб. Во-вторых, она вышла за пределы литературы и разлилась по всей поверхности литературной разговорной речи. Применявшие ее уже ни в коей мере не надеялись улучшить советский строй.
2
Что же за речь сформировалась в конце 50-х – 60-е годы и продолжала функционировать в общих очертаниях до конца советской власти? Можно было бы сказать, не боясь натяжек, что это была лишенная силы и темперамента даже в лексическом пласте речь людей, от которых ничто не зависит в жизни их собственной страны.
Вернемся к нашему примеру с «буржуазным предрассудком». Он демонстрирует: слова в публичном языке советской цивилизации так прочно связались с навязанными им соседями, что уже трудно было – после нескольких десятилетий верчения в кругу одного и того же словаря – выпутаться из речевой паутины и употреблять слово в его обычном словарном значении.
Любопытны будут данные не так давно изданного «Русского ассоциативного словаря», который стал результатом анкетирования студентов (с родным языком – русским) первых-третьих курсов разнопрофильных вузов всех регионов России. Участник эксперимента, получив некую анкету, должен быстро ее заполнить, написав против каждого слова («стимула») «только одну, первую пришедшую ему на ум ассоциацию – реакцию, вызванную этим стимулом».[547] В исследуемом периоде (опрос шел в течение десяти лет – 1988–1997 гг.) слово предрассудок уже ни разу не повлекло за собою ассоциацию («реакцию») буржуазный, тогда как буржуазный дало 7 ответов с ассоциацией предрассудок[548] – при том что в Словаре Ушакова в статье «предрассудок» пример «буржуазный п.» стоит первым, а в Академическом (том 11 вышел в 1961 году) – четвертым (цитата из Горького): на исходе советского времени цепь разомкнулась. Хотя нельзя не учитывать того, что в словарях советского времени ставка была на официальную речь, а в Ассоциативном – на спонтанную, сдвиг все же очевиден.
При этом борьба достраивается ассоциацией за мир (бесспорный советизм) столь же часто, как ассоциациями дзюдо и самбо (немало ассоциаций – классов, классовая), строитель – самое большое число ассоциаций – коммунизма. С немалым количественным отрывом от него дальше идут естественные, казалось бы, для «нормальной» языковой среды ассоциации кирпич, дом, рабочий, каска. А в числе единичных ответов наряду с высотник, города, маляр, рабочая одежда, школы, экскаватор появляются и будущее, светлое будущее, социализма, т. е. реликты советизмов.
Характерно, что на слово активный самое большое число реакций – комсомолец – свидетельство того, как глубоко пустила корни советская порча языка. Положительный – первая по количеству реакция герой: сугубо школьная советская синтагма, не сходившая со страниц советского квазилитературоведения с 40-х годов и застрявшая в памяти студентов. (Кстати сказать, в большой, на две с лишним колонки, статье на это слово в Академическом словаре (том вышел в 1960 году) примера положительный герой нет).
Эти примеры лишь репрезентируют сотни и более других случаев – например, «голое администрирование»;[549] «безродный космополит», где оба слова оказались искалеченными совместным пейоративно окрашенным употреблением и на долгое время потеряли возможность самостоятельного «нормального» бытования.[550]