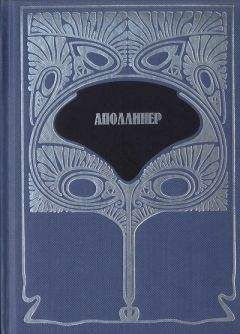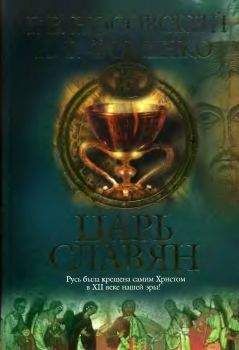Мариэтта Чудакова - Новые работы 2003—2006
Точно так же разрушился язык наук гуманитарного цикла, от философии до литературоведения (ср. рассуждение Эйхенбаума о об отсутствии научного языка).
Авторитетным же (отнюдь не – культурно значимым![528]) стало именно это отчужденное от живой речи слово. До середины 50-х это слово подавляло любые другие. Рискнем высказать гипотезу – нейтрального литературного языка, на фоне которого формируются разные стили речи, в советской реальности уже не было: он стал идеальным конструктом.
«…Речевые навыки ‹…› не сменяются вместе со сменой социального состояния индивидов ‹…› Однако тенденции таких изменений дают о себе знать в виде сознательной или неосознанной ориентации человека на более престижные образцы речи. Еще не владея литературной нормой, он уже отталкивается от просторечия как от “неправильной”, “неграмотной” речи».[529]
Отталкивается – в сторону той самой речи, которую Чуковский назвал канцеляритом. Итак, на наш взгляд, при выборе этого именно стилевого регистра срабатывал не механизм щегольства культурой, а механизм лояльности. Срабатывало желание приблизиться к языку власти – единственному публичному языку. Говорить «правильно» – то есть так, как говорят с партийных трибун, по радио, со страниц газет – в интервью и просто в статьях.
Чем неестественней для свежего слуха, то есть чем ближе к стилистике официального слога (в терминологии Паустовского и Чуковского – «бюрократический», «канцелярский», «иностранщина») становилась речь советского обывателя, тем защищеннее он себя чувствовал. Ведь с этой неестественности для молодого крестьянина новой политической речи и начиналось его к ней приобщение – он с детства привык, что язык церковного богослужения, говорящего о важном, не должен быть полностью понятным. К тому же тот язык, на котором он с детства говорил, вскоре стал отвергаться новой властью на корню.[530] К началу 60-х продолжал существовать – но вне поля зрения общества, лишь в частушках и – вкраплениями – в песнях.
А осталось ли городское просторечие, не затронутое канцеляритом? Образцы его стали попадать на общественное обозрение в первой половине 60-х – в песнях Галича:
…Доложи, – говорю, – обстановочку!
А она отвечает не в такт:
– Твой начальничек дал упаковочку —
У него получился инфаркт!
и Высоцкого:
– Послушай, Зин, не трогай шурина:
Какой ни есть, а он – родня…
…– Ой, Вань, умру от акробатиков!
Как кувыркается, нахал!
…– Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь!
«Канцелярское» слово, именно как обесцвеченное и безвариантное, с послевоенных лет стало в какой-то степени исполнять в разговорной речи ту функцию, которую в 20-е годы исполняло слово полублатное («даешь», «братишка», «шамать»): стало знаком лояльности, свойскости говорящего по отношению к власти. Но и в письменной (печатной) речи оно должно было успокоить бдительность цензуры и при необходимости дать возможность автору высказать «в упаковке» нечто для него важное.
3
Прежнее живое и богатое литературное слово само по себе – вне содержания высказывания – с начала 20-х свидетельствовало против говорящего как «слишком грамотного» (это свойство актуализировалось во время второй мировой войны – ср. «Случай на станции Кречетовка» А. Солженицына; заглавие дано по первой публикации). После середины 50-х такая функция в значительной мере ослабла, да и само слово почти исчезло из звучащей речи. Но неожиданно возникли его вкрапления в уже сформировавшуюся, отличную от него устную речь – с возвращением в крупные города из лагерей и укрытых в сибирской и дальневосточной глуши мест ссылок немалого числа тех, кто сохранил в какой-то степени речь, полученную в дореволюционной семье.
Не можем не привести глубокое, многое объясняющее (при необходимости для автора выражаться прикровенно) суждение М. В. Панова:
«Судьбы языковой нормы во многом зависят от способов передачи и усвоения литературного языка. До революции в усвоении языковых норм первостепенную роль играли семейные традиции. Круг интеллигенции, которая являлась носителем литературного языка, был социально замкнут и относительно неподвижен. Навыки литературного говорения передавались из поколения в поколение примерно так же, как передаются навыки диалектного говорения. ‹…› И вот этот узкий круг носителей литературного языка распахнулся, вобрав в себя массы людей, которые упорно усваивали новые нормы речи, отказываясь от диалектного и просторечного говорения. Семейные традиции перестали быть основным средством передачи навыков речи. Книга превратилась в первого учителя языка» (курсив наш).
Достаточно задать себе вопрос – какого рода книги становились учителем языка для тех, кто с детства приучен был к «диалектному и просторечному говорению», как секрет «канцелярита» откроется сам собой. Эти книги были по большей части газетами, заключенными в переплет, – пособиями для многочисленных «университетов – марксизма-ленинизма» и т. п. (недаром первой из задач изучения литературной нормы М. В. Панов называет изучение «влияния на формирование современной литературной нормы языка политической публицистики»). Мы не сомневаемся, что и сама «книга» у Панова – в немалой степени эвфемизм «газеты» (т. е. политической публицистики).
Он фиксирует, что ориентация «на книгу как на главного учителя языка обусловила массовое проникновение элементов книжной речи в разговорную, нечеткое разграничение разговорных и книжных норм языка». Хотя эту нечеткость разграничения автор считает «очень характерным для 20 и 30-х годов», но тенденция не прекратила своего действия – наоборот, дала эти странные плоды: «зеленый массив» в живом разговоре.[531]
Панов отмечает, что «рядом с книгой стало радио» и что его влияние на звучащую речь может стать «главенствующим». Речь уже не о радиоагитпропе 20-х годов – о расширившихся возможностях «влияния сценической речи на общие языковые нормы» (Панов 1962, 5–6). В конце 40-х – 50-е годы радиопрограммы действительно были насыщены театральными постановками – и в первую очередь это был классический репертуар Малого театра и МХАТа. Задавленные в первые советские десятилетия языковые традиции «приличных семей» теперь предлагались обществу со сцены академических театров…
Именно эта мозаичность была чертой первого послесталинского десятилетия.
В 1962 году в ноябрьском номере «Нового мира» печаталась первая повесть никому не ведомого Солженицына, где событием был сам язык, освобожденный от речезаменителей учебников, газет, докладов, от воляпюка учрежденческих кабинетов и коридоров, а также и от жаргона «полуинтеллигентных» (используя зощенковское слово) посиделок. Разом – с мгновенностью удара – слетали и уже накопленные за почти десятилетие после смерти Сталина и в беллетристике, и в литературной критике пласты оговорок, умолчаний, иносказаний, подразумеваний.[532] И в той же самой журнальной книжке помещена была статья только что вошедшего в редколлегию уже знаменитого журнала В. Лакшина, в которой либеральная мысль была плотно упакована в оболочку советизмов, привычно-лицемерных, демагогических сентенций и подразумеваний:
«В те годы восстановление социалистической законности и ленинских норм партийной жизни оздоровляюще подействовало на психологию людей, побудило думать смелее, шире, мужественнее. ‹…›
Кстати, вправе ли мы считать, что доверие не просто отвлеченная моральная истина, а идея социалистическая? Думаю, что вправе. Социалистическая мораль, основанная на общественном равенстве и самоуважении, впитывает в себя все лучшее, человеческое, благородное, что было выработано в общении людей веками. ‹…› И когда в новой программе мы читаем, что человек человеку – друг, товарищ и брат, – это звучит как торжественное провозглашение идеи доверия между людьми и приговор лживой подозрительности».[533]
Публичная речь отставала от литературы – хотя бы от упоминавшегося рассказа А. Яшина «Рычаги», автор которого еще в 1956 году сумел взглянуть на эту речь со стороны.
VIII. Поляризация языка
1
Рецензия П. Я. Черных на книжку К. Чуковского – одна из страниц той работы осмысления «русского языка советского общества», которая интенсивно была начата в послесталинские годы. Тема выдвинута была в 1958 году В. В. Виноградовым и С. И. Ожеговым[534] и в дальнейшем стимулирована в первую очередь М. В. Пановым.
Авторы работы, выполнявшейся под его общей редакцией, зафиксировали (едва ли не впервые в советской печати), что