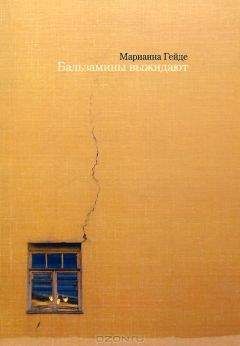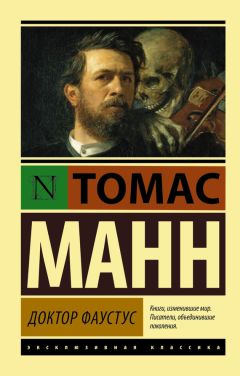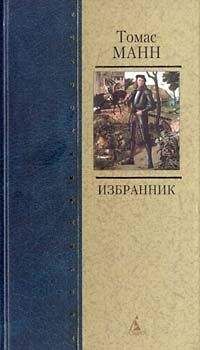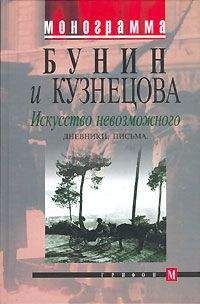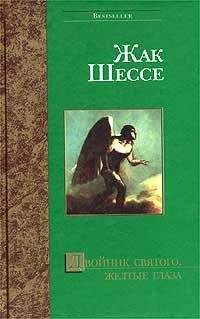Петер Надаш - Тренинги свободы
К этому состоянию я стремился. Оно притягивало меня, как наркотик. В этом состоянии мне было хорошо — оно и сейчас со мной, хотя с тех пор прошло столько лет — этот зимний сумеречный час, на улице еще не стемнело, в доме, у моего письменного стола, горит свет. Между внешним миром и моими размышлениями или фантазиями — гигантское расстояние, но оба мира для меня одинаково реальны, и ни один не заставляет усомниться в другом.
Систематического образования я так никогда и не получил. Чего отчаянно стыжусь благодаря сохранившимся у меня остаткам буржуазного воспитания. Ну, а то, что у меня нет даже аттестата зрелости — и вовсе позор! С другой стороны, это давало мне ощущение огромной свободы — ведь я мог без всяких помех жить своей, полной немыслимых страданий, внутренней жизнью.
Три года я проработал фотокорреспондентом в женском журнале «Нёк Лапья», потом — журналистом в газете «Пешт Медьеи Хирлап». По наивности своей я полагал, что, будучи журналистом, смогу преодолеть проблемы цензуры, на что как фотограф не был способен. С репортажами с производства, которые принято было писать в те времена, я потерпел полный провал, о народном хозяйстве я не имел ни малейшего представления, внутренняя и внешняя политика меня не интересовали. Я писал что-то вроде очерков-портретов, критические статьи, коротенькие заметки. Этим я вызывал у коллег-репортеров немалое презрение; бывало, они даже мстили мне. Месть эта была вполне понятной и справедливой, ведь выглядело все так, как будто я устранялся от определенных вещей, уклонялся от определенных поручений, которые приходилось, естественно, выполнять им; а потому время от времени мне внезапно поручали такие задания, которые ставили меня лицом к лицу с мучительными нравственными сомнениями. Я написал по крайней мере два репортажа, в которых далеко переступил всякие границы своей моральной терпимости: один был о ночных учениях рабочей милиции, другой — о визите болгарской партийной делегации. Это были задачи, с моральной точки зрения попросту неразрешимые, мне ничего не оставалось, кроме как лгать: ведь я ни словом не мог упомянуть о том, что на учениях — слава богу — ничего не сработало, так как члены рабочей милиции уже чуть ли не с полудня были пьяны в стельку.
Эти два задания, которые я выполнил вопреки собственным убеждениям, отчасти и послужили причиной тому, что в 1968 году мне стало ясно: этим я больше заниматься не могу, пусть даже под угрозой голодной смерти. У меня был договор с газетой еще на год, я писал заметки о радиопрограммах, рецензии на книги; потом оставил и это.
Я страшно боялся, что со мной будет. Однажды мы гуляли в будапештском парке Варошмайор с Алэн Польц, женой писателя Миклоша Месёя, и я спросил ее: как мне быть, что она посоветует? Она сказала: «Звери полевые и птицы небесные тоже не спрашивают, на что им жить. Господь промышляет обо всех». Слова эти могли бы привести меня в отчаяние, если бы я не был христианином и если бы этот факт как раз в то время не имел для меня огромного значения. Эта фраза была для меня важна и по другой причине: мне, с моими нравственными терзаниями, представлялось лучшим и более честным решением положиться на волю провидения, вместо того чтобы продолжать заниматься работой, которая никоим образом не могла принести мне удовлетворения.
Потом я уехал из Будапешта. Я жил в деревне Кишороси, в светлице крестьянского дома, и, собственно говоря, даже не представляю, на какие средства существовал. Голодать я никогда не голодал, но ел очень мало, меня подкармливали пожилые крестьянки. Была фасоль — старушки давали мне фасоль, а созревали помидоры или горох — приносили гороха или помидоров… У меня была кошка, и если я покупал банку печеночного паштета, всегда отдавал ей половину. Как-то раз мне принесли в подарок пять картофелин, в огороде рос посаженный мной укроп, вот я и изобрел новое блюдо — картофельный суп с укропом. Этот суп, между прочим, мы любим до сих пор.
К сожалению, сейчас мне уже не у кого спросить, почему меня все-таки окрестили. В войну мы уцелели благодаря поддельным документам. В нашей семье не было обычая переходить в христианскую веру. О религии говорить было не принято; сам я только в восьмилетнем возрасте узнал, что я еврей. Сцена, изображенная в «Ежедневнике» — один из тех немногих эпизодов в моих книгах, которые полностью, слово в слово соответствуют действительности. После того, как я торжествующе заявил, что ненавижу евреев, мать заставила меня посмотреть в зеркало и сказала в точности следующее: «На, погляди хорошенько, вот тебе еврей! Хочешь — ненавидь его, хочешь — презирай».
Если во всех вымыслах, созданных мною до сих пор, центральную роль играет проблема идентичности, поисков моей собственной идентичности, то истоки ее наверняка кроются в той минуте, когда мне пришлось взглянуть в зеркало на свое собственное наивное «я». Антисемит увидел своего жида, жид — своего антисемита, обоих — в одном и том же лице. И если есть у человека духовный жизненный путь, то, возможно, нет на этом пути ничего важнее, чем познать две противоположные стороны самого себя. С тех пор я и стараюсь не забывать о своей «другой» половине.
Вероятно, мои родители — коммунисты, евреи и некрещеные, — решили все же окрестить меня для того, чтобы избавить от иудейского религиозного воспитания. Но для меня это ничего не объясняет. Почему, по какой причине они все-таки не хотели, чтобы я был евреем? Так или иначе многие годы для меня это абсолютно ничего не значило. Я продолжал семейную традицию, опиравшуюся на свободомыслие и атеизм. Но прошло время, и крещение стало значить для меня очень много; так продолжается и по сей день. Мое отношение к христианству не имеет никакой «организованной» формы. Хотя одно время я ходил в церковь.
Меня воспитывали атеистом, но уже в детстве меня больше всего мучил один вопрос: что, если это мировоззрение ложно в самой своей основе? Даже ребенок может чувствовать, что во вселенной, в которой он живет, у вещей есть некий порядок, иерархия. Ну а если у вещей есть некая иерархия, то неважно, как я назову то, что стоит на ее вершине — абсолютным духом или Богом. Пусть даже и не на вершине иерархии — ведь туда мой взгляд не достигает, — но хотя бы на одной из высших ее ступеней, еще доступной моему взгляду, должно быть место соответствующему понятию.
Представление о мире, которое я получил от моих родителей, никак не согласовывалось с моими чувствами. А потому я начал размышлять, насколько же она стабильна — вселенная, картину которой преподносили мне атеизм, материализм и свободомыслие. И пришел к неизбежному выводу, что материализм и атеизм могут быть лишь частями некоего предполагаемого целого. А следовательно, передо мной встали новые вопросы: что есть нематериальное? что такое теизм? что можно противопоставить свободомыслию? Снова та же история: я вижу в зеркале сразу и антисемита, и еврея. И если я, еврей, провозглашаю себя христианином, то я не так уж далек от Иисуса Христа. В конце концов, даже генетически. Да и европейскому образу мысли я более близок, чем если бы был только тем или другим.
Моя культура — это вполне обычная культура рядового европейца, к которой, само собой разумеется, естественным образом примыкает и еврейская культура. Это такие вещи, которые друг друга не исключают и способны весьма мирно уживаться бок о бок. Если только мы не расисты и не включаем национальное происхождение в число политических категорий. Если вопрос ставить именно так, напрямую, то я — еврей. По этому вопросу мой прадед высказался в парламенте довольно просто: «Кому не нравится, что в этой стране живут и евреи — пожалуйста, пусть эмигрируют».
…Если вы думаете, что я считаю Томаса Манна с Марселем Прустом некими образцами, которым необходимо следовать, то я должен возразить. Критикую ли я их? Нет, это тоже неверно. Я питаю к ним своеобразную симпатию, но, в сущности, мне больше по душе другие писатели. Мне больше по душе Музиль, русская литература XIX века, вообще вся литература XIX века в целом. Мне больше по душе Теодор Шторм и Фонтане, потому что по сравнению с ними Пруст и Томас Манн — стилисты. А стилисты — это эстеты. Когда я читаю Гоголя, мне в голову не приходит называть его эстетом. А читая Пруста или Томаса Манна, я думаю именно об этом. Пусть они великолепные стилисты, пусть у них изумительное эстетическое видение мира, но они говорят очень мало нового о человеке, совершают мало потрясающих открытий о человеческих отношениях. Гоголь и Чехов, Толстой и Фонтане знают и могут рассказать об этом гораздо больше.
Эти два великих стилиста — Марсель Пруст и Томас Манн — были интересны и важны для меня скорее из-за того, что я тоже задавался вопросом: почему мы вынуждены быть не столько знатоками человеческих отношений и характеров, сколько эстетами или стилистами? Почему вся литература второй половины XX века сместилась в сторону стилистики?