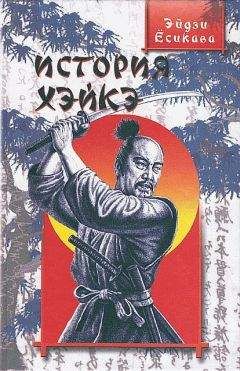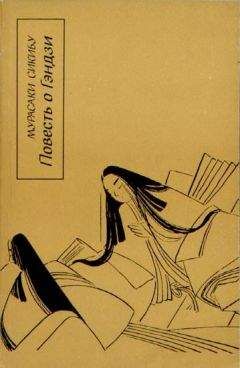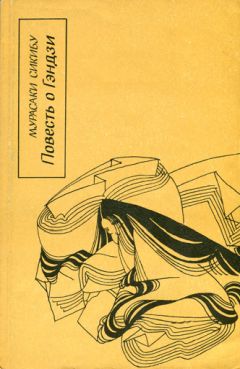Джулиан Барнс - За окном
Для женщины типичный мужчина непознаваем, неясен.
В нашем браке не принято было делиться чем-либо огорчительным, удручающим, деморализующим, скучным — за исключением тех случаев, когда этого было не избежать.
Женщины склонны утешать мужчин — все женщины, всех мужчин, в любых обстоятельствах, без разбора.
Идеальный брак — это брак между писателем и его/ее редактором.
Жена должна уважать родственников мужа даже в тех случаях, когда муж — такое бывает — не питает к ним особого уважения.
Жена должна уважать инаковость своего мужа — должна ее принимать, ведь она никогда не узнает его полностью.
Это звучит как стеснительность, возведенная в принцип супружеской жизни; она чревата тем, что жена, овдовев, начнет разбирать бумаги покойного мужа и найдет нечто такое, о чем и не подозревала. В случае с Рэем Смитом это нервный срыв, любовная интрижка в санатории, отзыв о нем психиатра: «страдает от недостатка любви», дальнейшие свидетельства трудных, натянутых отношений с отцом. «При том, что я так хорошо знала Рэя, — заключает она, — я не знала его воображения». Учитывая, что муж крайне редко читал ее художественные произведения, он, вероятно, тоже не знал ее воображения. Но он был «первым мужчиной в моей жизни, последним мужчиной, единственным мужчиной».
Автобиографические рассуждения о скорби в определенном смысле не фальсифицируемы, а следовательно, не подлежат пересмотру в соответствии с общепринятыми мерками. Книга грешит повторами? Скорбь тоже. Книга местами непоследовательна? Скорбь тоже. Такие фразы, как «друзья проявляли теплоту, приглашая меня в гости», банальны; но скорбь полна банальностей. Глава, названная «Ярость!», начинается так:
Меня, как раненое животное, до изнеможения переполняет ярость.
Вброс адреналина в сердце — и мое сердце начинает стучать учащенно и яростно, словно кулак в неподатливую поверхность: в запертую дверь, в стену.
Если студент, изучающий писательское мастерство, сдаст такой текст в качестве части рассказа, преподавательница, вероятно, потянется за красным карандашом; но если та же самая преподавательница ведет дневник, где в форме потока сознания рассказывает о своей скорби, вышеприведенный абзац, как ни странно, окажется приемлемым. Ощущения именно таковы, а скорбь — это временами не что иное, как катастрофическое столкновение языковых клише. Несколькими страницами ниже Оутс рассуждает о том, что теперь у нее есть две ипостаси: одна — приватная, именуемая «Джойс Смит» или «миссис Смит», официальная вдова, а другая — публичная, сохраняющая трехчастное именование, которым подписаны ее произведения:
«Оутс» — это остров, оазис, к которому нынешним растревоженным утром я могу направить непослушным веслом свой неустойчивый, утлый челнок; путь этот труден, но не потому, что подо мной глубина, а потому, что море здесь мелкое, заросшее водорослями, а днище моего челнока того и гляди пробьют подводные утесы. И все же — как только я пристала к этому острову, к этому оазису, к этому средоточию покоя в центре хаоса моей жизни — как только я прибыла в университет…
Образ челнока и мореплавания, сколь угодно развернутый, мертв навсегда? Это несущественно. Автор воображает — вероятно, впервые в мировой литературе, — что к оазису можно подойти на веслах? Как вы не понимаете: непоследовательная образность — это достоверное изображение не на шутку отвлеченного и раздробленного ума. Хотите сказать, она это проглядела, вычитывая гранки? Опять же, совершенно несущественно, заметила она это или нет. Вы просили дать ощущение: вот оно, ощущение.
Скорбь смещает границы пространства и времени. Скорбящие открывают для себя новую географию, в которой карты, составленные другими людьми, оказываются весьма приблизительными. Столь же ненадежным оказывается и время. К. С. Льюис в своем сочинении «Наблюдая за скорбью» показывает, как повлияла на него смерть жены:
До сих пор мне вечно не хватало времени. Теперь у меня только и остается, что время. Почти чистое время. Пустая последовательность.
И для скорбящего эта ненадежность времени усугубляет смятение ума; что же являет собой время: состояние или процесс? Проблема эта — отнюдь не теоретического свойства. Она лежит в основе вопроса: всегда ли будет так, как сейчас? Изменится ли положение дел к лучшему? А с какой стати? Но если да, то как я это распознаю? Льюис признается: начав писать свою книгу,
я считал, что смогу описать определенное состояние, начертить карту скорби. Но скорбь, оказывается, — это не состояние, а процесс. Она требует не карты, а истории.
По-видимому, она требует и того и другого одновременно. В порядке уточнения можно сказать, что горе — это состояние, а скорбь — процесс, но для человека, испытывающего и одно и другое, это разграничение не всегда столь отчетливо, и «процессом» оказывается то, что влечет за собой многократное соскальзывание назад, в паралич «состояния». Существуют различные объективные показатели: точка, в которой высыхают слезы, — постоянные, ежедневные слезы; точка, в которой мозг возвращается к квазинормальной деятельности; точка, где происходит избавление от личных вещей; точка, в которую начинают возвращаться воспоминания о покойном. Но общих правил быть не может, как не может быть стандартной шкалы времени. Нельзя полагаться на эти скверные нейроны.
Что же происходит потом, когда состояние и процесс, еще далекие от завершения, все же разграничиваются и узнаются? Что происходит у нас в сердце? Опять же, вокруг раздаются безапелляционные голоса (от «Как можно было после супружества с ним / с ней вступить в повторный брак?» до «Говорят, у кого был счастливый брак, тот быстрее создает новую семью — зачастую в течение полугода»). Один мой знакомый, чей многолетний партнер умер от СПИДа, сказал мне: «В этом есть только один положительный момент: можно плюнуть на все и заниматься чем хочешь». Но беда в том, что для человека, пережившего утрату, понятие «заниматься чем хочешь» в большинстве случаев требует присутствия того, кого больше нет, и нарушения законов мироздания. Так что же: затаиться, замкнуться, запереть себя в верности посмертной памяти?
Рэймонд Смит не питал особого пристрастия к доктору Джонсону, считая его излишне назидательным, и предпочитал изучать образ этого ученого мужа не по собственным трудам последнего, а по описаниям Босуэлла. Однако рассуждая о скорби, Джонсон проявляет не столько назидательность, сколько мудрость, четкость и определенность:
Неразумно и тщетно пытаться продолжать жизнь в состоянии безучастности и равнодушия. Если бы мы, отгородившись от радости, могли бы тем самым избавиться от скорби, такой план заслуживал бы самого серьезного внимания. Но раз уж, сколь ни ограждай себя от счастья, горе все равно найдет для себя многочисленные ходы и боль не даст о себе забыть, можно отвергать любые обещания радостей, но безусловно имеет смысл в какой-то момент попробовать поднять свою жизнь выше средней точки апатии, потому что в какой-то иной момент волей-неволей придется опуститься ниже этой точки.
Итак, что же указывает на «исход» скорби? Возможность сосредоточиться и вернуться к работе; пробуждение интереса к жизни и способности получать от нее удовольствие при осознании того факта, что нынешнее удовольствие несопоставимо с ушедшей радостью. Способность прочно удерживать в памяти утраченную любовь и вспоминать ее без искажений. Способность строить свою жизнь так, чтобы покойный был бы доволен (хотя это щекотливый вопрос: бывает, скорбящие дают себе полную свободу действий). А что потом? Обретение некой формы самодостаточности, чуждой безучастности и равнодушия? Или создание новых отношений, которые либо вытеснят собой прежние, либо, вполне возможно, будут черпать в них силу?
Существует еще одна удивительная параллель между этими двумя книгами — «Год магического мышления» и «История вдовы». К моменту выхода в свет многим читателям стали известны важные подробности, не отраженные в текстах. В случае Джоан Дидион это смерть ее дочери Куинтаны (в следующем издании книги об этом уже было сказано); в случае Джойс Кэрол Оутс — ее вступление в брак с неким нейробиологом, чье существование стыдливо упомянуто на последней странице. Вы можете возразить, что те, кто пишет о скорби, устанавливают, не в пример многим другим, собственные литературные рамки, и тем не менее в случае Дж. К. Оутс в такой недомолвке сквозит некая грусть. Писательница рассказывает о тех двенадцати месяцах, отсчет которым ведется с 18 февраля 2008 года; по ее собственному свидетельству (в интервью газете «Таймс»), она познакомилась со своим вторым мужем в августе 2008-го, в сентябре они стали совершать пешие прогулки и походы, а в марте 2009-го поженились. Если Дидион поставила «вопрос о жалости к себе» в первых строках книги, то Оутс сходным образом затронула ту же сложную материю в главе, названной «Табу»: