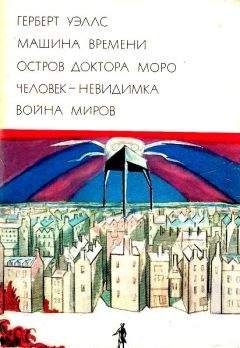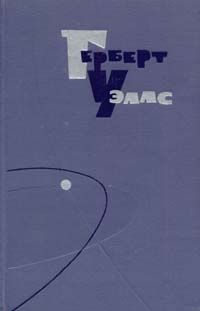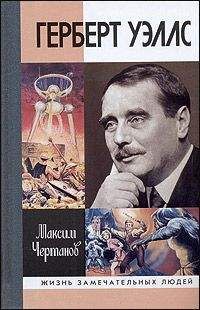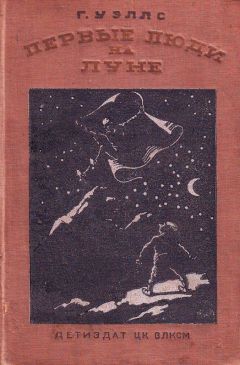Анатолий Луначарский - Том 6. Зарубежная литература и театр
Человек заблуждается, — вы указываете ему на это заблуждение. Если это заблуждение отмечается и суждением партии — высшего для нас руководителя, — а он, несмотря на это, упорствует в своем заблуждении, — мы никак не можем быть снисходительными и мягкими. Но, с другой стороны, обрушиться на людей, вместо того чтобы убедить их, еще до того, как они обнаружили нежелание считаться с нашими высшими авторитетами, было бы, конечно, нерационально, и руководящие органы нашей партии, например, никогда так не поступают. Равным образом после раскаяния заблуждавшегося встать на позицию мести, на позицию кары во что бы то ни стало, было бы глубочайшей ошибкой. И опять-таки Коммунистическая партия и ее высшие органы так не поступают. Внести необходимую твердость и вместе с тем глубокое товарищество в наши отношения не только внутри партии, но и за ее пределами (припомните настояния Ленина: «окружить наших спецов товарищеским отношением»11) — это важно, и последнему, в пределах обычных житейских взаимоотношений, Ромен Роллан может, пожалуй, поучить.
Отметим еще одну, новую для меня по крайней мере, ноту в предисловии Ромена Роллана к русскому изданию его сочинений. Он довольно резко отмежевывается от аскетизма Толстого12, от осуждения Толстым основ европейской культуры, — и это хорошо. Здесь Ромен Роллан ставит границы между собой и одной из наиболее азиатских черт учения Толстого.
Ромену Роллану шестьдесят три года. Вряд ли мы переубедим его, но мы готовы даже учиться у него некоторым элементам его миросозерцания. Конечно, было бы превосходно, если бы и он у нас кое-чему поучился. Во всяком случае, среднего последователей мы, наверное, найдем таких, которые окажутся доступными нашему воздействию.
Борьба против мещанства есть одна из наших главных задач, в том числе мы должны бороться против самого лучшего мещанства, Но вместе с тем мы должны бороться и за мещанство, за то, чтобы завоевать его и присоединить его к нашему лагерю, и прежде всего здесь приходится бороться за лучшую часть мещанства, а такой опять-таки являются благородные гуманисты типа Ромена Роллана. Интеллигенция, в частности, и эта наиболее ее тонкая и честная часть, вовсе не quantite negligeable (величина, которой можно пренебречь), как когда-то говорил Струве13, наоборот, она должна быть расцениваема как очень серьезный и возможный союзник. Для того чтобы бороться с нею и за нее, надо хорошо ее знать, а к знанию ее прекрасным путем является изучение произведений Ромена Роллана14.
1930
Все написанное мною о Ромене Роллане в этой статье остается правильным как оценка тех его позиций, которым он был верен в течение многих лет своей жизни. Как известно, Ромен Роллан теперь уже не тот. Ромен Роллан, несмотря на свое сочувствие советской революции, все время осуждавший и полуосуждавший насилие как метод революционной борьбы с буржуазией, теперь открыто в целом ряде заявлений перешел на ленинскую точку зрения15. Он понял, что ничего нельзя поделать с буржуазной сворой, повесившей над головой всего мира новую войну, способную, обрушившись, раздавить надежды человечества, если не найдется силы — прямой физической силы, чтобы отбросить эту свору от руля нашего общечеловеческого корабля. Он понял, что «слов не надо тратить по-пустому, где нужно власть употребить»16. Он понял, что эту власть может представить собой только организованный в боевые колонны пролетариат.
С тех пор мы смотрим на Ромена Роллана как на нашего товарища, с которым мы расходимся только в тех или иных деталях. Это прямой, честный и мужественный союзник. Новые боевые знаки отличия заслужил он на службе красной армии подлинного социалистического прогресса как организатор и деятель недавнего антивоенного конгресса17.
Мне посчастливилось посетить Ромена Роллана на вилле «Ольга» в Вильневе18. Я счастлив еще раз констатировать, как полон жизни этот уже пожилой человек, каким юношеским огнем горит он, как внимательно и тонко следит за маневрами врага и как по-прежнему полон поток его жизни, как много философских и художественных проблем и интересов живет в его душе. Я еще раз убедился в том, что Ромен Роллан — великий человек, прекрасный человек и, что выше всего этого, — настоящий, крепкий, до конца идущий революционер.
1933
Последняя пьеса Пиранделло*
Пиранделло — самый сложный и самый виртуозный из европейских драматургов. Он приобрел, несомненно, мировую славу1 и занимает место одного из первых современных мастеров драматургии. Естественно, что ему хочется видеть осуществление самой сложной и самой оригинальной из своих пьес — той, которая является кульминационным пунктом развития всей его драматургии, в московском оформлении2, ибо вся Европа знает, что помимо острого политического содержания, все больше и больше наполняющего наш театр, мы обладаем еще и отзывчивостью на всякое формальное новаторство, если только оно представляет собой действительный шаг вперед и способно, благодаря своей чрезвычайной технической изощренности, соответствовать самым гибким, самым оригинальным замыслам авторов.
Пиранделло, конечно, буржуазный или, по нашей терминологии, мелкобуржуазный драматург. Всякие обвинения его в мистике представляют собой недоразумение. Никакой мистики у Пиранделло нет. Наоборот, это мелкобуржуазный писатель, целиком относящийся к лагерю гуманистов. Он любит человека, в особенности человека обиженного, он поистине страдает за него, и его пьесы переполнены соответственной гуманистической патетикой. Не примыкая ни к какой политической партии и будучи, по всей вероятности, глубоким пессимистом (то есть не ожидая, чтобы что-нибудь могло изменить жизнь человеческую и сделать ее из глубоко незначительной и глубоко грустной — глубоко значительной и глубоко радостной), Пиранделло тем не менее по-чеховски признает эту печаль современной жизни, и, конечно, в нем горит мечта о какой-то. другой, выпрямленной и светлой жизни людей. Таким образом, по общей своей идеологии Пиранделло похож на таких писателей, как, скажем, Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Жорж Дюамель, которых мы охотно переводим и считаем своими друзьями.
Но важно, конечно, не то, что объединяет Пиранделло с другими более или менее передовыми мелкобуржуазными писателями современной Европы, а то, что его от них отличает. Почти во всех своих произведениях Пиранделло занят вопросом о правде и иллюзии. Ему присуще острое сознание того, что, в сущности, все человеческие взаимоотношения зиждутся не столько на вещах, на реальности, сколько на социальных связях, на социальных установках. Тут-то и происходит иногда ошибка в оценке произведений Пиранделло. Так, один из давних и уже позабытых наших реперткомов запретил одну пьесу Пиранделло за мистицизм, в то время как мистикой там и не пахло, а был пущен в ход высокооригинальный литературно-театральный прием. Дело не в том, что Пиранделло уходил от материализма, что он предполагал существование какого-нибудь мира духов или что-нибудь подобное, — никаких следов какого бы то ни было спиритуализма или религиозности у Пиранделло разыскать нельзя (я говорю о его произведениях). Основным приемом его драматургии является раскрытие роли иллюзии в жизни. Обманы и самообманы — вот что составляет обыкновенно материал его пьес. Это придает им определенную условность. Иллюзии выглядят чем-то сильнее фактов, но это совсем не так далеко от нашего миросозерцания. Мы также рассматриваем самую базу общества как своеобразный фетишизм, в котором фетишизированные вещи закрывают от глаз людей лежащие за ними социальные взаимоотношения.
Люди обманывают друг друга, часто сами того не сознавая, люди обманываются сами и верят в свой самообман. Иногда такой самообман бывает утешительной силой, иногда бывает призраком, нереальностью, которые не мешают ему быть реально мучительным.
Темы Пиранделло многочисленны и каждый раз дают театру чрезвычайно интересную «игру» между иллюзиями и действительностью, тем более острую, что сама театральная сцена есть, с одной стороны, художественная иллюзия, а с другой стороны, стремится стать для зрителя убедительной действительностью. То мы видим чудака, который, стремясь убежать от пошлой жизненной обстановки современности, воображает себя Генрихом Четвертым, окружает себя средневековым двором, сквозь искусный маскарад которого все время проскакивает пошлая действительность3.
То мы видим мать, потерявшую сына, которая гигантскими усилиями создает себе иллюзию, будто он жив, находится здесь, в своей комнате, и постоянными заботами о нем, постоянными разговорами о нем как о живом нагоняет жуткую иллюзию и на окружающих4.