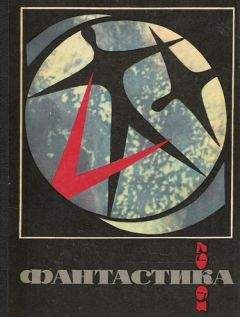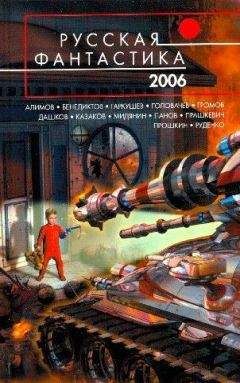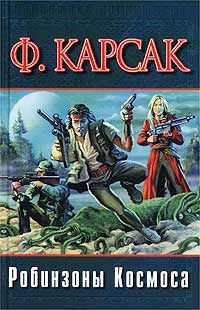Сергей Сиротин - Русская фантастика: кризис концептуальности
Другой путь фантастики состоит в описании столкновения разума с иррациональным. Скажем, в романе американского писателя Филипа Дика “Стигматы Палмера Элдрича” (1965) не стоит задача построить какой-либо альтернативный мир, нет линдсеевских мистически мерцающих красок. Сохраняя, подобно большинству фантастов, реальность узнаваемой, Дик не разглагольствует о том, что разум несовершенен. Он строит ситуацию, которая это демонстрирует. По сюжету книги, межпланетный промышленник Палмер Элдрич, улетавший по деловым вопросам в другую звездную систему, спустя долгое время возвращается с новым и неизвестным наркотиком. Этот наркотик угрожает подмять под себя существующий рынок, который обслуживает рабочих-колонистов, ведущих трудную и бессмысленную жизнь на осваиваемых планетах. Казалось бы, перед нами начинает разворачиваться космический сериал, но вскоре читатель замечает, что кланово-правительственные интриги отходят на второй план, уступая место проблематике совсем другого уровня. Дика интересуют возможности человеческого познания. Божественное в его романе – не недоступная в своей мудрости абстракция, а проявленный участник повествования. Дик ставит вопросы, не показывая на них издалека пальцем, как Стругацкие, а приближая к нашим глазам; дает вглядеться в то, как призрачно мерцают в их объеме искры ответов, такие слабые, что их и за ответы нельзя принять. Мы знаем, что Бог иррационален и всесилен. Дик показывает, как именно это может выглядеть. Это всесилие без внешнего фэнтезийного налета, это власть над человеческим сознанием, убедительно продемонстрированная в скрученной истории, не имеющей ни начала, ни конца, не способной доискаться ни до одного устойчивого факта: “Внизу простирался мир мертвых, не изменяющийся мир причин и следствий. Посредине располагалось человечество, но в любой момент человек мог пойти ко дну, упасть в лежавшие ниже адские глубины. Или же он мог вознестись в третий, эфирный мир, у него появились шансы достичь вершин”.
Это размышление одного из героев Дика, если рассматривать его само по себе, подходило бы парадигме нашей фантастики – давать внешнее и общее суждение о каком-либо состоянии человека или мироздания, не обозначая пути к нему. Что это, в сущности, как не общие слова? Но заслуга Дика в том и состоит, что он показывает, как подобные слова теряют значение, когда начинается путь. Вступая на него, человек находит расставленные им ранее капканы общих фраз раскрытыми и ничего не поймавшими. К сожалению (а по сути, к счастью), я не могу привести тут цитату, которая наглядно бы это демонстрировала. Избирательная концентрация смысла, афористичность вообще чужды книгам Дика, их смысл рассредоточен на уровне сюжета. Пространственно-временные сдвиги (на первый взгляд лишенные логики), в плен которых попадают герои “Стигматов”, сбивают персонажей с позиции сторонних наблюдателей и вовлекают их внутрь ситуации столкновения реального и иррационального. Тотальность взаимопроникновения божественного и человеческого, реального и вымышленного делает возможным описание иррационального опыта, исходя из него самого.
Несколько иным, но также лишенным самоуверенности реализма способом этот опыт описывает в “Солярисе” Станислав Лем, когда демонстрирует читателю рушащиеся попытки человека рационально систематизировать поведение разумной планеты. В этих книгах иррациональные конфликты получают развитие, а не остаются замкнутыми в своей непознаваемости, как, скажем, конфликт сталкеров и Зоны в “Пикнике на обочине” Стругацких.
Построение или интерпретация картины мира – тоже путь фантастики. Здесь уместен пример японской фантастической традиции, которая глубоко прониклась западным опытом, вплела его в собственное мироощущение и даже на массовом уровне создала небывало мощную культуру. Речь прежде всего об анимации и ролевых играх, популярность которых в мире огромна, однако в Россию пришла совсем недавно, поскольку долгое время у нас отсутствовала индустрия продвижения такого рода продукции. Лучшие ее образцы воплощают идеал массовой культуры, сочетая зрелищность, увлекательность и серьезное содержание, которое вполне может стать предметом отдельного культурологического исследования. Известные анимационные сериалы Neon Genesis Evangelion, Serial Experiments Lain и Texhnolyze – это глубокая экзистенциальная фантастика со скрытым и явным символизмом и конкретными культурными отсылками. Это совершенные образцы современного искусства, идущего по пути описания экзистенциально-иррационального опыта личности через новые формы, в которых ключевое значение имеют драматизм ситуаций, сильные эмоции и приближение к божественному через созерцание. То же можно сказать об играх серии Final Fantasy, издающихся миллионными тиражами, и особенно об играх серии Xenosaga, смысловая нагрузка которых, замешанная на алхимическом символизме, аналитической психологии К.Г. Юнга, христианской проблематике и достижениях современной науки, совершенно исключительна. Новейшая визуальная культура Японии – это настоящее чудо современного мира, осуществившее реабилитацию высокого культурного наследия в форме, которая, казалось бы, уже сделала ее бесповоротно невозможной.
В нашей же фантастической традиции, как мне кажется, интересен только Виктор Пелевин, который принадлежит к писателям “большой” литературы, но тем не менее добился куда более значимых успехов в фантастике, чем те, кто изначально нацелил – или думает, что нацелил, – себя на ее создание. Пелевин единственный, кто использует реальность как платформу для прыжка и кто, прыгнув, старается не приземляться обратно. Заявлено это было еще в ранних произведениях писателя. В “Омоне Ра”, положим, нет отрыва от базовой реальности, даже наоборот, есть спасительный возврат к ней, но на этом пути постоянно встречаются указатели на тотальное сомнение в устойчивости мира, представленного тогда советской действительностью. В “Жизни насекомых” по таким указателям уже возможно петляющее движение, а в “Желтой стреле” оно обретает статус полноценной альтернативы обыденному существованию. Пелевина не интересует праздное фантазирование на серьезные темы. Его произведения концептуальны и обращаются к конкретному философско-религиозному и культурному наследию. “Жизнь насекомых” или “Желтая стрела” – не молебен по ушедшей культуре, они постулируют существование другого пути и демонстрируют попытку движения по нему. Концептуальность этих книг – в буддийском подтексте, первоначальный смысл которого, правда, порой ослаблен авторской подачей, преследующей популяризаторские цели.
Концептуальные провалы нашей фантастики подчеркивает и выявляет ее художественное несовершенство. Чингиз Айтматов и братья Стругацкие писали слабую фантастику, но сильную литературу, в то время как большинство их последователей не преуспели и в литературе. На фоне эстетической слабости отчетливо видна немощь фантастической мысли. Трансформация опыта, обретенного человеком в неведомом мире, в насущную актуальность не преступна сама по себе. Преступной ее делает преднамеренное снижение смысла в угоду наглядности. Чем более наглядно и адаптировано фантастическое произведение, чем более “актуально”, тем менее оно открыто к свободному освоению той скрытой действительности, приоткрыть которую способно воображение. Актуальность, как уже говорилось выше, – это удел притчи, к написанию которых по большей части и сводится наша фантастика (в ее лучших образцах). Притча никуда не направляет читателя, но пытается внушить ему чувство вины и, ничего не объясняя, предостеречь от ошибки. В ней нет места полифонии, зато заранее заготовлено место для морали. Притча ценит опыт не сам по себе, а только за то, что он является прологом к ее кульминации, в то время как идея о целенаправленной демонстрации какого-либо смысла для фантастики вообще ущербна. Можно даже сказать, что в лучшей фантастике смысл – это побочное явление. Он рождается в момент оглядки на пройденный путь и как бы без участия самого человека, он слагается из опыта и, обращаясь неким посланием, невольно оказывается созвучным тому, что испытывали и о чем говорили философы, мистики и люди, пережившие откровение. Так рождается концептуальность как рациональное измерение непостижимого, а характерные для притчи резонерство и афоризмы ценны лишь в тех глубоко трагичных столкновениях человека с миром, которые выводят его в более широкую область реальности. Такая реальность уже не дает эмоциям и переживаниям соотноситься с ограниченной повседневностью, позволяя вместо этого им самим приобретать почти онтологическое значение. Возврат отсюда в земное измерение уже нельзя обставить как дешевое морализаторство. Когда Маскалл, один из персонажей “Путешествия к Арктуру”, вдруг обнаруживает, что “человеческое братство не басня, придуманная идеалистами, а реальный факт”, и сообщает об этом читателю, у нас есть право обвинить его в том же, в чем, скажем, Айтматова, – в корыстной апелляции к вымыслу, делающему правомерным любое утверждение. Однако Айтматов постулирует утопию, он создает ее из ничего, продлевая в вымысел свою мечту об идеальном. Линдсей ничего не постулирует, его слова – не посылка, а итог пути, который возможен как раз потому, что там, где человеческое существование по-настоящему развернуто, оно лишено памяти об антропоморфной реальности, которая готова счесть прорывом в фантастическое уже само знание о существовании идеала. Такая развернутость чрезвычайно важна, потому что меняет природу фантастических абстракций: из наклеенных ярлыков, указывающих на исчерпанность наших знаний, они превращаются в явления, удостоверенные человеческим опытом, который рождается в смутном иррациональном конфликте и посредством таких абстракций движется к обретению суждения относительно себя. Подобные конфликты интересуют наших писателей исключительно из-за масштаба, но они совершенно не освоены так, как они единственно и могут быть освоены – с доверием к потустороннему опыту, ответственностью перед художественным образом и без пренебрежительного отношения к ним как к вымыслу.