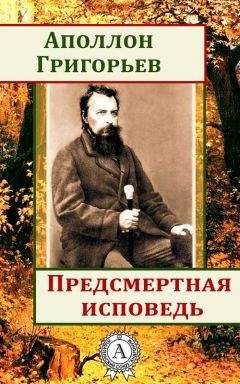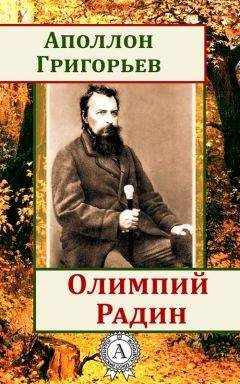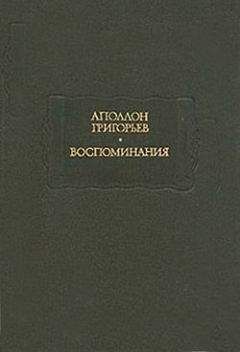Александр Блок - Судьба Аполлона Григорьева
Как раз в это время кое-кто почему-то возуважал его, кто-то «готовился выдать патент на обер-критика». Однако «билет» этот Григорьев вскорости «почтительно возвратил».
Теперь, в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, Григорьев, которому уже решительно нечего терять, представляет из себя впервые цельную и весьма внушительную фигуру. Открытое лицо со старорусским пошибом; манера говорить «с жаргоном московского литератора сороковых годов»; голос «здоровенный» – когда говорит, «гибкий и задушевный» – когда поет; вот он потчует чаем заезжего Фета; в красной шелковой рубашке, подыгрывает себе на гитаре, перебирая струны маленькой и нежной, как у женщины, рукой (всегда, должно быть, грязной) [33] .
Пьянство идет уже безудержное, так сказать привычное. Пьют, за неимением водки, чистый спирт, одеколон и керосин. В пьяном виде Григорьева одолевает «безудерж». В нем – «своя душевная Макарьевская ярмарка». То из театра выведут (за неуместное подсказыванье роли одному певцу, громовым голосом, на весь зал); то найдет его В. С. Серова валяющимся на ее диване, «уткнувшимся в подушку и издающим невозможнейшие звуки со свистом и шипением»; то Боборыкин застанет его спящим на биллиарде в клубе.
Приходя в неожиданный восторг, положим, от «Юдифи» Серова, Григорьев начинает орать:
«Ведь он, шельма, прегениальнейшая бестия, этот Сашка! чорт его дери! Как это у него запоет Юдифь: „Я оденусь в виссон“, то я готов сапоги ему лизать. Сколько раз я приходил к нему в то время, когда он сочинял своих безутешных жидов, я прямо бац ему в ноги… не могу! больно хорошо! гениальнейшая башка у него, у Сашки!» Или: «Пиши, Сашка, народную оперу, у тебя хватит на это таланта; народное, „свое“ более живучее, чем все иностранное. Ведь и греки свое, народное писали, и чем больше в их искусстве своего, греческого, тем оно дороже. А что у нашего народа красоты нет, это пустяки! Это зависит от художника. Ну-ка, с легкой руки валяй, Сашка!»
А потом опять нападет «путаница душевная», чувство полной собственной «ненужности», хандра.
Пропивая все, Григорьев садился в долговое отделение, в так называемую «тарасовскую кутузку»; туда брал он с собой гитару и журнальную работу; утихомиривался и довольно аккуратно писал; а как случалось это неоднократно, в тарасовском доме Григорьева даже знали и уважали.
Впрочем, журнальная работа уже шла туго. В один прекрасный день Григорьев, как это и прежде случалось с ним, сбежал из Петербурга. Причиною тому была будто бы «ссора» с Достоевским и желание поправить денежные дела службою в Оренбурге. Негласной-то причиной был все тот же «подтачивающий червь».
С той поры Григорьев еще не однажды пробовал начинать сызнова и жизнь и работу; но, в сущности, сбежав в Оренбург, он «закатился». Возврата к жизни ему уже не могло быть.
5
Когда говорят, что пьют «с горя» или для того, чтобы «заглушить совесть» и «найти забвенье», – это правдиво, но не совсем. Когда говорят, что «вымещают на женщинах чистоту одной», это тоже не совсем правдиво. Можно все это рассказывать приятелям, а особенно приятельницам, в письмах; но наступает рано или поздно час, когда ничто уже не обманывает и всякое исповедальное кокетство перестает быть нужным.
Такой час и наступил теперь для Григорьева: человек он был прежде всего правдивый. Жизнь положительно выпирала его из себя. Попробовал было служить и даже читать публичные лекции, но в конце концов «до того опустился, что, если у него не было на что выпить, спокойно являлся в чей-нибудь знакомый дом, без церемонии требовал водки и напивался до положения риз… ходил в старом сюртуке, грязный, оборванный, с длинными нечесаными волосами, и имел самый непривлекательный вид» [34] .
В письмах 1861 года из Оренбурга к Н. Н. Страхову, с которым незадолго до того познакомился Григорьев, в последний раз слышим мы страстные и сильные жалобы на жизнь [35] .
«Пока не пройдут Добролюбовы [36] , честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать, потому что негде, потому что повсюду гонят истину, а обличать тушинцев [37] совершенно бесполезно. Лично им это как к стене горох, а публика тоже вся на их стороне.
Гласность, свобода – все это, в сущности, для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность „Искры“, свобода „Русского вестника“ или теоретиков [38] – неужели в серьезные минуты самоуглубления можно верить в эти штуки?
Самая простая вещь, – что я решительно один, без всякого знамени. Славянофильство также не признало и не признает меня своим – да я и не хотел никогда этого признания… Островский, с которым „все общее“, „подал руку тушинцам“. Погодин – падок на популярность…
Подумай-ка, много ли людей, серьезно ищущих правды?
Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов – и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности.
Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст; жизнь есть глубокая ирония во всем; во времена торжества рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали и посылает Калиостро; в век паровых машин – вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира духов, странных, причудливых, насмешливых, даже похабных.
О себе: „во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся“. Или: я – старая „никуда не годная кобыла“.
Увы! Как какой-то страшный призрак, мысль о суете суетствий – мысль безотраднейшей книги Экклезиаста – возникает все явственней и резче и неумолимей перед душою…»
Нуждаются ли эти отрывки в толковании? – Думаю, что они говорят сами за себя; не говорят, а вопиют; именно теперь – время услышать их, понять, что это – предсмертный крик все той же борьбы. Борются не на жизнь, а на смерть интеллигентская скудость и темнота с блестками какого-то высшего, не могущего родиться просветления; обратите внимание на эту скудость воображения:
Калиостро и столоверчение – примеры из «таинственного мира духов»! Как будто не было других примеров рядом, под рукой! Это то же, что «Великий Художник» в письме из-за границы к Погодину, приведенном выше. Григорьев готов произнести имя, он все время – на границе каких-то прозрений; и не может; темнота мешает, ложное «просвещение» и детище его – проклятый бесенок оторопи – не дают понять простого.
А рядом – какая глубина мысли! Еще немного – и настанет тишина, невозмутимость познания; ожесточение оторопи сменится душевным миром. И близость с самой яркой современностью, с «Опавшими листьями» Розанова. Ведь эти отрывки из писем – те же «опавшие листья».
Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в «прогрессивных», ни в «ретроградных», – по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то «Новом времени». Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только «Опавшие листья» увидят свет Божий. Так всегда. А пока – читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого послушаете. – Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость.
После Оренбурга, уже совершенно больной душевно и телесно, Григорьев промаячил еще два года в Петербурге. Он еще раз попробовал закинуть собственный якорь [39] , но барка его сорвалась с якоря; ее понесло течением. Григорьев уже вовсе не владел силами, которые в нем жили; они правили им, не он ими. Он считал себя бесповоротно погибшим. Страхов жалуется, что «хлопоты о нем больше не помогают». Действительно, он погиб.
В последний раз освободила его из долгового отделения некая, не вполне бескорыстная, генеральша Бибикова [40] . Он будто бы бросился перед нею на колени на набережной Фонтанки. Освобождение, по-видимому, только ускорило гибель. В последние месяцы с Григорьевым происходило что-то «странное» и для друзей «непонятное». «Geh' undbete» [41] , – кричал он приятелю, тыча пальцем в пустую стену. Должно быть, он хотел спрятаться: просто почувствовал смерть и ушел с глаз долой, умирать, как уходят собаки.
На похоронах, по словам свидетеля, «курьезных» [42] , присутствовал какой-то жалкий журналист – всеобщее посмешище: Лев Камбек. Тот самый, имя которого упоминается в «Бесах» Достоевского [43] . Освистанный либералами за то, что осмелился сказать, что «сапоги ниже Пушкина», Степан Трофимович Верховенский все лепетал под стук вагона:
Век и Век, и Лев Камбек,
Лев Камбек, и Век и Век…
и чорт знает что еще такое…
После похорон приятели напились.
6
Вот те скудные воспоминания и письма, рассказы и анекдоты, которые я собрал, стараясь как мог меньше прибавлять от себя; ибо я хотел рассказать правдиво собственно о судьбе этого человека, о внутреннем пути Аполлона Григорьева.