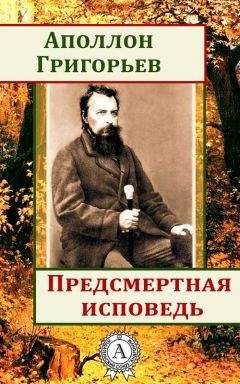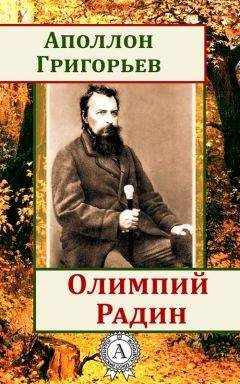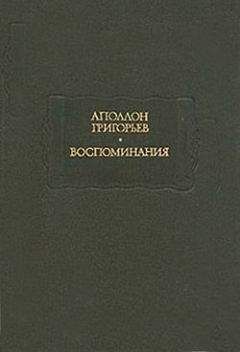Александр Блок - Судьба Аполлона Григорьева
Так как любовь Григорьева была, как все его любви, бескорыстна и страстна, то он и не взял от нее ничего, кроме новой обиды и нового горя.
Так развернулась борьба. Казалось, что генеральное сражение близится к счастливому исходу; голос Григорьева крепнет, здание, им воздвигаемое, растет. Критическая ругань стояла кругом великая, «до пены у рта» (Булгарин, западники) [23] . Может быть, близилась и власть? Власть побольше власти Белинского?
Однако, вглядываясь в эту среднюю, «лучшую», москвитяниновскую полосу жизни Григорьева, мы чувствуем какую-то пустоту. Завелась пустота, зовущий голос, который был слышен прежде близко, зазвучал тише. Уж очень много было рассуждений, даже просто «критики».
Сам ли Григорьев почуял это или «подтачивающий червь» [24] , который в нем жил, шевельнулся, – только в самую напряженную минуту [25] Григорьев все оборвал и бежал «от дружб святых и сходок безобразных», чтобы погрузиться в новые сны [26] .
За границей Григорьев сразу повел себя по-русски: «истерически хохотал над пошлостию и мизерней Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектациею, честной глупостью и глупой честностью, плакал на пражском мосту, в виду пражского кремля, бранил Вену и австрийцев, подвергая себя опасности быть слышимым их шпионами, и наконец окончательно одурел в Венеции».
Здесь «смягчился только фанатизм веры в народное, но сама вера не сломилась» [27] . Григорьев больше думал, чем писал. Со всею неумолимостью встала перед ним безнадежность в личной жизни и безнадежность любви к «проклятой и вместе милой родине». О том и о другом лучше всего скажут отрывки из собственных писем Григорьева [28] .
К Е. С. Протопоповой из Венеции – от 1 сентября 1857 года:
«Что ждет меня (в России)? Все то же – тоска, добывание насущного хлеба, пьянство людей, к которым я горячо привязан, безнадежная, хотя и чистая борьба с хамством в литературе и жизни, хамская полемика и Ваша дружба, то есть право терзать Вас анализом, пугать донкихотством и удивлять цинизмом и безобразием».
К ней же, из Флоренции, 24 ноября:
«Здесь я все изучаю искусство, – да что проку-то? В себя-то, в будущую деятельность-то, во всякое почти значение личной жизни утратил я веру всякую. Все во мне как-то расподлым образом переломано… Нет! глубокие страсти для души хуже всякой чумы, – ничего после них не остается, кроме горечи их собственного осадка, кроме вечного яда воспоминаний.
Женским душам, должно быть, легче это достается. Ведь любила же она меня, то есть знала, что только я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь…
Каких подлостей не позволял я себе в отношении к женщинам, как будто вымещал им всем за проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту одной…»
К М. П. Погодину, из Флоренции, 8 ноября:
«Читали ли вы в „Норде“ один фельетончик из Петербурга, срамный фельетончик, где мы хотим показать, что и мы, дескать, европейцы и у нас есть блудницы, скандальные истории, demi-monde… [29] Это ужасно. Не знаю, произвел ли он в вас то же чувство негодования… Ведь это голос из России, это – les premices [30] нашей свободы слова… Бедный, обманутый, самолюбием ли, безумным ли увлечением, Герцен. Неужели один подобный фельетон не наведет его на мысль… что уж лучше старообрядчество, чем подобная пакость моральной распущенности!
…Во всех подобных случаях для меня со всею неумолимостью поставляется вопрос: что противнее душе моей, ее правде: подобный ли фельетончик или православие блаженной памяти „Маяка“? А все, все и в душе и обстоятельствах этих нудит дать себе наконец последний, удовлетворяющий и порешающий ответ…»
К Е. С. Протопоповой, 3 января 1858 года:
«Все так неумолимо-окончательно порешил ось для меня в душевных вопросах, так последовательно обнажилось до желтых и сухих костей скелета – так суровы стали мои верования, так бесповоротны и безнадежны мои ненависти, – что дышать тяжело, как в разреженном и резком воздухе гор».
К М. П. Погодину, 7 марта:
«Принцип народностей неотделим от принципа художественного, и это точно наш символ, только допотопный. В этом символе – новость, свежесть жизни, вражда к теории, к той самой теории, которая есть результат жизненного истощения в том мире, в который судьба меня бросила. Теория и жизнь вот Запад и Восток в настоящую минуту. Запад дошел до мысли, что человечество существует само для себя, для своего счастия, стало быть должно определиться теоретически, успокоиться в конечной цели, в возможно полном пользовании. Восток внутренне носит в себе живую мысль, что человечество существует в свидетельство неистощенных еще и неистощимых чудес Великого Художника, наслаждаться призвано светом и тенями Его картин; отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица – человечества. Восток верует только в душу живу и не признает развития этой души… Но я увлекся своим созерцанием и начал с жалоб.
Лиси язвины имут, и птицы гнезда; Сын же человеческий не имать где главы подклонити. Так и наши воззрения, или, лучше сказать, наше внутреннее чувство… Никто не знает и знать не хочет, что в нем-то, то есть Православии (понимая под сим равно Православие отца Парфения и Иннокентия – и исключая из него только Бецкого и Андрюшку Муравьева), заключается истинный демократизм, то есть не rehabilitation de la chair [31] , а торжество души, душевного начала. Никто этого не знает, всякого от православия „претит“, ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, – а мы, его носители и жрецы, – пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу. Так вакханками и околеем. Это горестно, но правда… Горестней же всего то, что этого ничего нельзя говорить, ибо, заговоривши, примыкаешься к официальным опекунам и попечителям Православия или подвергаешься нареканию в „брынской вере“.
Увы! Новое идет в жизнь, но мы – его жертвы. Жертвы, не имеющие утешения даже в признании. Жертвы Герцена – оценю даже я, православный, а наших жертв никто не признает: слепые стихии, мы даже и заслуги-то не имеем. Вот почему наше дело пропащее [32] .
А своекорыстие одних из нас и полная распущенность других (к числу последних принадлежу я сам!). Меня, например, лично – никакие усилия человеческие не могут ни спасти, ни исправить. Для меня нет опытов – я впадаю вечно в стихийные стремления… Ничего так не жажду я, как смерти… Ни из меня, ни из нас вообще – ничего не выйдет и выйти не может, – да и время теперь не такое. Мы люди такого далекого будущего, которое купится еще долгим, долгим процессом. Околеем мы бесславно, без битвы, – а между тем мы одни видим смутную настоящую цель. Не эти же первые люди, исчисляемые кумом Современником… Сам глава их, хоть и великий человек, – в сущности, борется за то, что плевка не стоит, за то, во что сам не верит».
К Е. С. Протопоповой, 19 марта:
«Ужасную эпоху переживаем мы вообще. Поневоле принимаешь опиум, когда вопросы жизни становятся перед сознанием во всей их беспощадной последовательности.
Мир и счастие не нам. Чудеса же замолкли, пора к этой мысли привыкнуть… или, если хотите, чудеса совершаются только во внутреннем мире души, все более и более отрывая ее от пристрастия к чему бы то ни было земному, преходящему».
Собственно говоря, от всех этих признаний тридцатилетнего человека, которому «трудно дышать» и для которого «замолкли чудеса», веет уже тленом. Григорьев все еще, несмотря на всю свою напряженность, «не может изжиться», в нем сидит «тысяча жизненных бесов». Еще, «как вода рыбе, необходимо ему сильно страстное отношение к женщине»; еще мучит его «неистовый темперамент»; он молит Венеру Милосскую в Лувре («чрезвычайно искренне, особенно после пьяной ночи») «послать ему женщину, которая была бы жрицей, а не торговкой сладострастия».
И Венера послала ему женщину.
И что же? – Нет уже веры в себя, «в торжество своей мысли». «Да и чорт ее знает теперь, эту мысль. По крайней мере я сам не знаю ее пределов. Знаю себя только отрицательно».
И, что, пожалуй, страшнее всего, уже тянет его что-то холостяцкое: «комфорт в чаю и в табаке (то есть если слушать во всем глубокочтимого… отца Парфения, в самом-то диавольском наваждении)».
Григорьев, по дурной интеллигентской привычке, все иронизирует, все подсмеивается; а все-таки к отцу Парфению прислушивается. Правду, правду говорит отец Парфений.
В таком-то неустойчивом равновесии вернулся блудный погодинский сын – только не в Москву, а в Петербург, и прямо угодил в белые ночи. Как бывает с людьми, которые долго жили в «иных мирах», наедине с собою, он потерял последнюю «приспособляемость», если и обладал когда-нибудь таковою.
Как раз в это время кое-кто почему-то возуважал его, кто-то «готовился выдать патент на обер-критика». Однако «билет» этот Григорьев вскорости «почтительно возвратил».