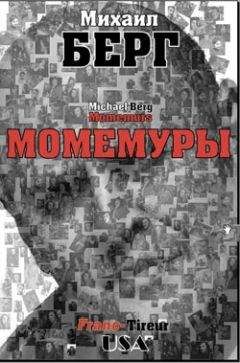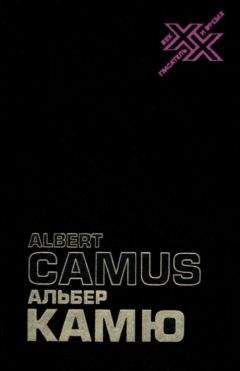МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА
Следующий уровень прочтения – современное Евангелие: благая весть о жизни Богочеловека. Бэс – одновременно и женщина, и Бог. Нам рассказана история жизни Богочеловека на земле. Так как Бог – женщина, то его (ее) крестные муки – сексуальные мучения; посредством их мир спасается и очищается, а звон колоколов возрожденной Церкви возвещает о рождении нового человека – просветленного Яна Ньюмана. Женщина-Христос спасает мир своей вагиной. Ее стихия – вода. Бог-человек шел по воде как по суху. Бог-женщина выходит на берег, рассекая волны, в белой пене свадебного наряда. И, рассекая волны, оканчивает земной путь. Христос-женщина, Христос-рыба. Не прахом прах поправ, а круговорот воды в природе.
Можно рассказывать разные истории. Павел Филонов, воплощая свои сюжеты, ставил перед собой задачу так плотно прописывать каждый квадратный сантиметр полотна, чтобы он был равен всей картине. Уровни интерпретации – это система координат, позволяющая разложить на составляющие то, что на самом деле неразделимо. Мы режем воду, но каждая капля равна другой капле. И здесь выстроено такое пространство, чтобы каждая вещь, взгляд, слово были равны себе, а каждый эпизод фильма можно было бы трактовать на любом уровне, и они, проникая друг в друга, придают происходящему глубину и резкость, зависящую от фокусного расстояния, которое у каждого зрителя свое. Мания может быть равна вере или не равна ей, мания может быть верой, вера может быть манией, одно не отменяет другого. История болезни равна житийному повествованию, история любви – религиозному подвигу, грешница – святой, и все вместе равно изображению.
Единственный виртуальный момент – компьютерные колокола в небе последнего кадра как знак новой реальности, а так во всем фильме нет ни одной детали, которая бы принадлежала ряду символической интерпретации, не оставаясь при этом реальной. Степень достигаемой достоверности равна степени постижения, реальность не искажается, а просвечивает, мы видим дно, но дно – тоже экран, на котором тоже идет фильм, и мы смотрим и его, и тот, который идет за ним, и так далее, пока хватает силы восприятия. Авторский комментарий – он же камертон, позволяющий постоянно настраивать инструмент постижения, – лицо Эмили Уотсон. Дело не в том, что ее лицо, будто сделанное из пластилина, способно передать любые нюансы ее переживаний – гримасы надежды, отчаяния, радости, мольбы, детского восхищения, хотя ее игра вполне самоценна и может быть раскрыта как этюдник, до отказа набитый учебными изображениями всего спектра человеческих эмоций. Лицо Эмили Уотсон – дополнительный экран, не только отображающий, комментирующий и оценивающий происходящее, ее лицо – чистилище, через которое проходит реальность, и она возвращает этой реальности подлинность, первозданность, ту чистоту, которая утеряна. Видит в первый раз, видит таким, каким видим их мы, но лицо преодолевает и очищает увиденное от наслоений нашего опыта. Отменяет наш опыт и преображает его. Вот Бэс с удивлением и любопытством девственницы смотрит на грудь, живот, волосатые яйца и член своего мужа. Вот она дрочит случайному попутчику в автобусе, а потом ее рвет спермой. Вот Бог, которого она изображает, прикрыв веки и опустив уголки рта, сурово читает ей свои наставления, и она обращается к нему со своими детскими просьбами, доверчиво открывая глаза и рот, потому что ее функция – открытость. Богу не нужно смотреть, чтобы видеть, человек должен быть открытым, чтобы понять. Мания равна святости и чистоте (подлинности) изображения. А любое изображение оказывается тождественно реальности и ее преображенному физиономическими усилиями образу.
Все, что режиссер полагает необходимым показать зрителю, умещается без каких-либо искажений в пределах экранного пространства еще и потому, что оно, это пространство, создано точно выбранными полюсами. Не полюсами зла и добра, всегда в разной степени условными. Не полюсами света и тьмы, трудно разделяемыми. А полюсами добра в его разных стадиях – жидком, текучем, неустановившемся и твердом, окаменевшем. Окаменела, застыла в жестких, негнущихся формах пуританская чистота, твердость, непреклонность равна нетерпимости и причиняет боль, а человеческая жизнь течет, и выбор, осуществляемый каждую секунду, адекватен повороту русла – налево, направо, в сторону жизни или заскорузлого окаменения. Добро с кулаками – это тоже вид добра, но только сжавшегося, уверенного в своей правоте. А сомнение – болезнь, мания, святость – текуче по своей природе. Почти все герои, даже те, кто впоследствии будет преследовать Бэс, – члены совета старейшин, мальчишки, побивающие ее камнями, мать, покорная воле общины, изначально добры и благородны, только их доброта и благородство имеют каменные границы, преодолевая которые их качества меняют свой знак, а точнее, консистенцию: вода превращается в лед. В том числе и святая вода – раз она замерзла, значит, течение прервалось. Недаром болезнь Яна – паралич, неподвижность. А его спасение заключается в том, что он получает возможность передвигаться. И колокола звучат над водой. И Бэс хоронят не в церковной земле, потому что эта каменистая почва перестала рождать жизнь, а в воде, в Божественной стихии.
Фильм, конечно, допускает антиклерикальную интерпретацию. Бог есть, но Церковь отвратительна ввиду своей ограниченности. За строго фиксированными границами начинаются те искажения, которые добро превращают в зло, а Церковь в секту. «Энтони, ты был грешником и заслужил место в аду» – этими словами окончательного приговора пастор благословляет умершего в последний путь. Церковь присваивает себе функции суда и Бога, но Бог говорит только с человеком и не нуждается в посредниках. Церковь – камень, человек – жив. Но это лишь одна из интерпретаций, предварительно включенная в список допустимых.
Кто-то скажет, что у фон Триера получилось все, в том числе то, что не получилось ни у Тарковского, ни у Бергмана. Говорить о Боге, чуде, грехопадении, жертвоприношении на языке будничной, скучной реальности и показать ее так, чтобы эта реальность ни на секунду не исчезла и не превратилась в красивую и впечатляющую аллегорию. Но надо что-то вычеркивать. Фон Триер снял прекрасный, неповторимый фильм, потому что повторить его не удастся ни ему, ни кому другому. Вычеркиваем «прекрасный». В принципе он сделал почти невозможное: рассказал простую историю, которая одновременно и агиография, и Евангелие. Вычеркиваем «почти». Потом вычеркиваем «невозможное». Такой фильм можно снять один за жизнь. Благая весть от фон Триера. Простые истины пока существуют. Вычеркиваем «простые». Чудо возможно. Бог есть. В мире есть место для любви и молитвы. Церковь – говно. Жизнь не кончается. Кино можно снимать. Вычеркиваем «церковь», «кончается», «кино».
1997
Герой, ломающий стулья
В петербургском Издательстве Ивана Лимбаха вышел том избранного Дмитрия Александровича Пригова – «Советские тексты». Книга роскошно издана и иллюстрирована рисунками самого Пригова. Автор предисловия и составитель – Андрей Зорин.
В том, что уже не первый раз избранное Пригова составляет не сам поэт, нет ничего удивительного. Пригов неоднократно повторял и повторяет, что не в состоянии отличить удачные тексты от менее удачных. Может быть, поэтому вместо качественного критерия в свое время им был выдвинут количественный: дневная норма – три стихотворения, а общий итог сначала был обозначен как 10 тысяч текстов, потом – 20 тысяч, но когда и этот барьер оказался преодоленным, появилась новая цифра – 24 тысячи.
Пригова называли «могильщиком советской литературы». Советская литература благополучно скончалась, но могильщик не остался без работы – объектом его исследований является тоталитарное мышление, в том числе традиционная российская ментальность. Но на поэтику Пригова можно взглянуть и под другим, так сказать, психоаналитическим углом зрения. Творчество Пригова – это попытка скрыть и одновременно реализовать целый ряд комплексов. Только комплексы Пригова – не психоаналитические, а культурные и соответствуют ролям, которые хотелось бы воплотить, да нельзя: поэт-морализатор (отсюда отчетливость морального суда без примет унылого морализаторства), поэт-гражданин (из хрестоматийной формулы Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»), поэт-пророк, поэт-иммигрант, а точнее, поэт-немец из выражения «Что русскому – здорово, то немцу – смерть» (чисто немецкое изумление по поводу традиционной русской беспорядочности, для русских – родной, для педантичных немцев – ужасающей).
Ряд может быть продолжен – поэт-хулиган, поэт-некрофил, конечно, поэт-графоман и т. д. Собранные воедино поэтические позы, некогда самоценные, составляют для Пригова один гигантский комплекс Поэта – именно его Пригов изживает в своем творчестве, а сам процесс фиксируется в стихотворных или прозаических строчках. Оставаясь поэтом нового времени, Пригов изживает комплекс Поэта предыдущих эпох и в наиболее удачных текстах обозначает, возможно, самое главное сегодня: границу между поэзией и непоэзией, искусством и неисскуством. Эта граница в каждую эпоху разная, поэтому метод Пригова можно назвать поэтической географией или поэтической топографией. Некоторые границы устаревают, их заменяют новые, другие же до сих пор сохраняют неприкосновенность.