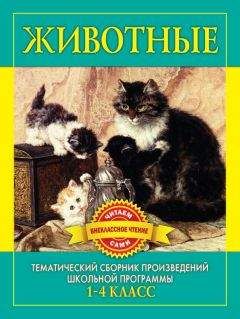Наталья Иванова - Русский крест: Литература и читатель в начале нового века
Я утрирую, но сегодня, во времена разгулявшихся хвастунишек, всякий желает прирастить свой символический капитал чужим. Причем не только «снизу вверх», но и «сверху вниз». Так эффект, пожалуй, даже посильней. Если потоптать как следует, то можно заполучить побольше капитала от того, кого топчешь, – как бы встать вместо него на его же постамент, сбросив памятник. Кто агрессивнее, тот и победитель. По этому принципу, в частности, выстроены книжки Т. Катаевой, которую усиленно раскручивают вроде бы вполне адекватные СМИ. Выпуск «известинского» приложения «Неделя». Вопрос: почему вы такую гадость написали? Ответ: а потому что. Интервью на полосу, да еще и с невнятным комментарием. Это надо «на правах рекламы» печатать.
Превращение героя в антигероя льстит тому самому «маленькому человеку», который никак не выйдет в настоящие герои нашей словесности.
А какой здесь таится сюжет! Ведь первый из «маленьких» у Достоевского, Макар Девушкин, мало того что ходит в литкружок Ратазяева – он анализирует и ниспровергает гоголевскую «Шинель».
Собственно говоря, как Достоевский самого Гоголя – в Опискине.
Но для этого надо быть Достоевским.
Упущенные возможности
Успех книги, то есть книжный рейтинг по-нашему, определяется уровнем ее продаваемости ( лидер продаж ).
Словосочетание рейтинг лучших удивляет.
И самое впечатляющее – в рейтинг ста лучших книг из истории мировой литературы (журнал Newsweek ), особенно в первую двадцатку, попала действительно высокая литературная культура.
Открывает список списков «Война и мир» – для западного читателя книга изысканная; эстетически, эпически, философски, исторически, всячески нагруженная. Впрочем, и для русского тоже. Если читать ее, не пролистывая страниц. Недаром один из лучших московских учителей-словесников Лев Иосифович Соболев при отборе учеников в старшие классы проводит строжайшее собеседование, по сути экзамен, именно по «Войне и миру».
«Улисс» – на третьем месте (забавно, что его прародитель Гомер – на восьмом). «Шум и ярость» – на пятом. «На маяк» Вирджинии Вульф занял седьмое.
Это внушает надежду на человечество.
Но не всякий называющий себя русским писателем может похвалиться тем, что он одолел или хотя бы держал в руках эти книги.
Считается хорошим тоном сочинять как бог на душу положит, по жизни. По своему опыту.
Это был и остается типа реализм – и не потому, что реализм лучше, а потому, что писать так проще; литературная задача снимается, почти как у Мольера.
Впрочем, до сих пор реализм понимается и как литература высшего сорта. И если, условно говоря, писатель работает в сюрреалистической манере, у него нет шансов быть оцененным по достоинству, то есть «выше» передвижника.
Дремучее наше дело никаких сравнений ни с современной музыкой, ни с ИЗО не выдерживает. Мне не совсем понятно, когда художественный стиль и метод современной литературы определяются как «познание и выражение истины», «поиск истины», «важность и значительность человеческого существования» [51] : здесь скорее расположены целевые поля религии, философии, да и науки тоже. Где же здесь словесность? Слово «игра» вообще наводит на критика ужас; а, собственно говоря, почему?
В лучшем случае, писатель «в курсе». В худшем – изобретает велосипед. И после этого писатели хотят, чтобы их переводили, издавали и покупали за рубежом. И страшно обижаются, если этого не происходит.
Отсутствие грамотно и ясно поставленной литературной задачи ведет русскую современную словесность в тупик. Потому что если опираться только на свой жизненный опыт (как, например, в навязчиво пропагандируемом «реализме», далеком от соображений о языке и стиле, или в отечественном изводе постмодернизма, с его культурной ограниченностью советской цивилизацией), на реальность, данную в ощущениях, то русская литература превратится в отчет о чем-то экзотическом: будь то советская культура, война в Чечне ( Chechnya ) или неизбывная чернуха ( chernukha ).
В мировой «двадцатке» выраженность литературной задачи несомненна. Цель каждого сочинения, от «Путешествий Гулливера» до «Гордости и предубеждения», все-таки не жизнь, а искусство. Физиологический очерк и «натуральная школа» остались в заднем ряду – куда им до стилистической изощренности Гоголя и преодолевшего «натуральность» метафизика Достоевского (хотя первый ее породил, а второй из нее вышел)!
Неслучайно так скудна отсылками к современной русской словесности книга «Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий», вышедшая под редакцией Н. Д. Тамарченко (2008). Хотя особенность «Поэтики» – постоянная обращенность к художественным текстам.
И кто же из современников здесь процитирован или хотя бы упоминается? Вл. Сорокин, В. Пелевин (гротескный образ; гротеск), Б. Акунин (детектив), И. Бродский (всего 14 отсылок), Б. Ахмадулина и А. Вознесенский (вариация), В. Гандельсман (неориторика). В. Высоцкий, С. Довлатов, Венедикт Ерофеев. А. Кушнер, Ю. Мамлеев, И. Машинская и Б. Хазанов (эпиграф). Вс. Некрасов (парадигмы художественности, центон), М. Рощин (пролог), О. Седакова (стансы). Т. Толстая (антиутопия), Л. Улицкая и А. Чудаков (идиллия), Г. Сапгир и Т. Щербина (незаконченность текста), О. Чухонцев (стихотворная повесть). Вычесть поэтов (они «сознательнее» держат форму) – прозаиков останется кот наплакал.
Современный писатель – всё больше «о стране и народе» и всё меньше о тексте, о слове. От модных и высоколобых до массовых и народных, от просто реалистов до реалистов новых, размахивающих этим термином, борющихся за приоритет: кто сказал первый? Но первый или последний – неважно.
Пренебрегающий возможностями и более того – обязанностями.
Упущенная выгода – экономический термин. Прибавим его для наглядности к умозрительной поэтике современной русской прозы. Упущенная выгода точно поставленной литературной цели.
Гламуризованный сырок
В одной из рабочих тетрадей Варлама Шаламова есть запись: «Мне нужно сжечь себя, чтобы привлечь внимание». Внимание бывает разнокачественным. Можно отнестись с радостью к тому, что увесистый шаламовский том под общим названием «Несколько моих жизней» вышел в издательстве «Эксмо» неплохим (4 тыс. экз.) тиражом. Но чувство живейшей радости быстро сменяется разочарованием: в томе, собравшем письма Шаламова, его автобиографическую прозу, следственные дела и записные книжки, научно-справочному аппарату уделено очень мало книжного пространства (комментарий к трем следственным делам уместился всего на двух с половиной страницах). Что можно понять из писем Шаламова Пастернаку (поименованному, кстати, в содержании инициалами Б. И.) или Солженицыну, если читатель не в курсе развития их отношений? Почти ничего. Ни контекста, ни расшифровки подтекста. Или комментарий дается, мягко говоря, полемически односторонний. Например, о Солженицыне в примечаниях сказано так: «В общем, спасался, ничем не брезгуя, шагая по головам» (с. 679).
Бесконечно тиражируют, пересоставляя, и стихи Анны Ахматовой. Только что на «круглом столе», проходившем в Музее-квартире Ахматовой в петербургском Фонтанном доме, почтеннейшей публике были продемонстрированы увесистые тома-кирпичи и малые томики, украшенные знаменитым ахматовским профилем на аляповатых обложках. Стихи напечатаны на страницах с «изячными» виньетками. Текстология тут не ночевала. Труды, которым годы жизни отдают текстологи (например, Наталия Ивановна Крайнева, много лет готовившая и сейчас наконец выпустившая [52] откомментированный том «Поэмы без героя»; собравшая самый выверенный двухтомник ахматовских произведений [53] ), для издателей, которые варят и будут варить свой супчик из Ахматовой, не существуют. Им выверенных текстов не требуется. Поскорее отшлепать тираж и получить прибыль, собрать деньги. Полученные от читателя, который, конечно же, купит Ахматову! И чем она будет «краше», тем скорее купит. А то, что ошибки от издания к изданию накапливаются, волнует мало кого, кроме специалистов (например, горячо выступавших на «круглом столе» Р. Д. Тименчика – автора «Анны Ахматовой в 60-е годы», Н. И. Крайневой или составителя «Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой» В. А. Черных).
Тексты искажаются, выходят с ошибками – искажаются и судьба, и облик Ахматовой. Недаром, видимо, сама А. А. так заботилась о точных данных и крайне щепетильно относилась к покушениям на свою биографию.
Спуск с исследовательских высот к полуглянцевой («Ахматовой без глянца») и глянцевой беллетризации отличается весьма характерными мелодраматизацией, романтизацией, пафосностью. И – безвкусицей, особенно режущей слух в повествовании о поэте с абсолютным вкусом. «Вот только что взлетевшая на гребень волны, игривая и бурлящая, – и уже оседающая кружевом на песке, покорно и бездвижно» – так нынче пишут и о Цветаевой, и об Ахматовой.