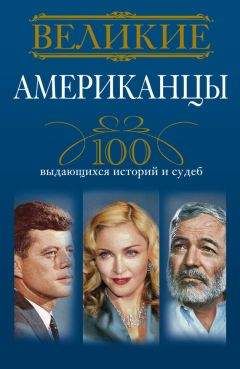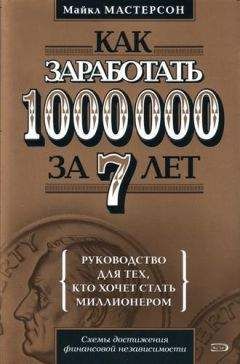Анатолий Луначарский - Том 7. Эстетика, литературная критика
Пылкий юноша хотел воспламениться, но строгий взгляд председателя усадил его на стул.
— В искусстве я не смыслю, — продолжал Акинф, держа в зубах задорно поднятую папироску, — и смыслить не желаю. Раз у людей избыток времени, потому что им нет нужды работать, то они скучают. Скука — мать развлечений, а искусство — развлечение. Как все, так и развлечение специализируется, и появляются специалисты-развлекатели: буффоны и шуты всех разновидностей. Они приобретают разные навыки и забавляют праздных и скучающих. И в украшенном лентами и орденами профессоре академии я узнаю пестрого шута. Человек, сделавший своею специальностью забаву других, в моих глазах — низменный человек. Мне кажется, что не только я, плебей, но и господа всадники и сенаторы не только в древнем мире, но и теперь, всегда немножко презирают мимов, флейтистов и других «мастеров потешного дела». Мастеровой дорвется до праздника, вылакает штоф, идет растерзанный и орет песню — развлекается. Купец вылакает дюжину шампанского, перебьет в первоклассном ресторане зеркала и морды половым — развлекается. Другие не так шумно, более тонко, но все то же, от скуки, тягостного труда или тягостного безделья. То, что общество тратит чертову уймищу денег на театры, музеи и пр. и пр., показывает, что в нем пропасть богатых тунеядцев. Это — один из позорных симптомов позорного распределения благ в обществе.
Акинф остановился и, сопя от негодования; стал крутить новую папиросу.
— Вы кончили? — спросила Елена.
— Нет, не кончил, — сказал Акинф сердито. — Ну, добро… — продолжал он, закуривая папиросу. — Развлекайтесь и тратьте то, что вам дано чужим трудом. А вы, «потешных дел мастера», развлекайте. Так нет! Каждому грибу хочется в своих глазах быть пальмой. Сидел вот я в тюрьме и в окно постоянно слышал разговор моих уголовных соседей. Проповедовал там все время старик, какой-то сектант, чудак: «Вы, говорит, воры, грех это!» Один отвечает: «А ты думаешь, вор не нужен? И вор, брат, нужен, тоже без вора-то не очень». — «А на что ж вора надо?» — «Стало быть, надо… виданное ли дело, чтобы без воров?.. Надо кому-нибудь и воровать». Настоящей теории тут не было, но чувствовалась жажда теории, которая бы оправдала и возвеличила вора. И без теорий он тоном глубочайшего убеждения утверждал, что надо кому-нибудь воровать. Ну, а у «потешных» — теорий через край. Наиболее невинная — теория служения искусству. Жонглирует тарелками и говорит: «Жонглерство есть искусство священное, и я ему всей душой служу». Помню, раз при мне квартальный с клоуном поссорился насчет бильярда: «Шут, говорит, полосатый!» А клоун ему: «Господин квартальный, клоун тоже артист». А я скажу: артист тоже клоун…
В комнате раздался шум и возгласы негодования.
— Вы его не злите, — густым и медленным басом сказал высокий рыжий господин в сюртуке, — а то он вам еще и не такого напарадоксит.
— Ежели Елене Дмитриевне угодно председательствовать, то пусть хранит порядок и молчание, — желчно заговорил Акинф, — хотя я того мнения, что охрана порядка не… не женское дело!
— Не бабье, Акинф? — спросил бас.
Елена Дмитриевна расхохоталась своим серебряным смехом и сказала:
— Ну, дальше, дальше, маленький холерик вы!
— Маленькая холера! — добродушно пустил бас при общем смехе.
— Я могу продолжать или не могу? — вызывающе спросил оратор.
— Да я же десять раз вас просила продолжать.
— А если художественная сия публика не желает слушать, с превеликим удовольствием могу кончить… Пусть тянут эстетическую канитель… — И, помолчав минуту, Акинф продолжал: — Это наиболее невинно, ежели танцовщица, оперный горлодер или изобразитель солнечных бликов на зеленой крыше, служа искусству разнообразно развлекать, считает это искусство самодовлеющим и в себе целью. Почему же бедному клоуну не думать, что он — артист, а раз артист, то и нечто важное, ибо надо кому-нибудь, непременно надо кому-нибудь и артистом быть. Но мало им! Мы, говорят, милость к падшим призываем9, мы раскрываем неправду жизни, проливаем свет, учим любви! А, черт раздери! Врете-с… Положительно, врете-с, хотя иные из вас и бессознательно. Толстому брюху и тоненьким нервам надо разнообразия! Раздушенная дама хочет видеть воочию, как бунтуют с голода ткачи с ввалившимися глазами, им хочется ультранатурализма, миазмов со «дна»!10 И они поговорят, даже иной раз поплачут. О, бедные братья наши ткачи! Уроним «на дно» слезу и гривенник милостыни. Это милости призывают! Дама приятная во всех отношениях говорит: «Поэт доказал нам, что в рубище почтенна добродетель»11. А дама просто приятная отвечает: «В сущности мы все — братья». Я вот репетировал идиотика у одной дамы, впрочем, во всех отношениях неприятной, так она приходит ко мне отдать десять рублей за пятнадцать часов каторги с ее болванчиком и говорит: «Ах, молодой человек… читаю Горького… Ах, эти босяки! Это — новый мир… Что значит искусство: ведь вот не заговорила же бы я с босяком, потому что страшно, и, благодаря Горькому, для меня открыта эта глубоко интересная душа. Он меня поразил… Мне даже снилось, будто я Мальва и будто бы все вокруг босяки, босяки, влюбленные, свирепые, цельные натуры, богатые такие»… Я, ей-ей, не преувеличиваю. Тогда разозлился я, а теперь смешно. Потом вот еще бичуют они современное общество. Он-то, Золя-то какой-нибудь, может быть, и от души хлещет, но как же он не поймет, что, значит, эта порка богатым приятна! — иначе как бы это он за нее, за многотомную и многообразную порку буржуазии, миллионы гонорара получил? Не углекопы же ведь, в самом деле, на сотни тысяч желтеньких книжечек по три с полтиной франка раскупают? И как я вспомню этих художественных бичевальщиков мамоны, так вспомню и того генерала, который крестьянским девкам по империалу платил за то, чтобы они его выдрали. — Акинф победоносно сделал паузу и продолжал: — Вся граждански-художественная канитель — вздор, читают ее те, кого она все равно ни на что не подвигнет, а те, кто может горю помочь, сами от него страждущие и не читают, да и не нуждается Ванька-пустоед, чтобы барин-писатель ему объяснил, что он дюже голоден. А отчего голоден? Это объяснять надо простецки. И как оглянешься вокруг, то и видишь, что не время бряцать, а надо в набат бить, а чтобы бить в набат, не надо быть художником! Пожалуй, что я и кончил.
Начавшийся было шум был сразу же прекращен энергичными мерами Елены Дмитриевны.
— Нет, нет, господа, не надо возобновлять хаос. Сделайте милость, имейте терпение. Я думаю, Борис Борисович имеет многое возразить нашему вандалу.
— Председатель недостаточно беспристрастен, — оказала с улыбкой высокая пожилая женщина со стрижеными волосами и худым лицом немного восточного типа.
Между тем Борис Борисович, медленно и задумчиво потирая руки, подошел к освещенному лампой столу. Это был человек очень небольшого роста, с красивым, но несколько мелким лицом, обрамленным прекрасными, черными кудрями и бородкой, как у Спасителя на иконах. Впрочем, очки и острые, быстрые глаза лишали его всякого сходства со Спасителем. Говорил он несколько торопливо и чуть-чуть заикаясь, но эти недостатки были заметны лишь вначале, по мере того, как быстрая речь его разгорячалась, он овладевал общим вниманием и начал волновать как настоящий опытный оратор.
— Акинф был односторонен. Нам как-то раньше не приходилось с тобою, Акинф, об этом говорить, — начал Борис Борисович, глядя на нахохлившегося юношу. — Мы с Акинфом почти во всем сходимся, но по этому вопросу, кажется, мы почти антиподы. Боюсь отнять у вас, господа, слишком много времени, иначе я…
— Времени у нас много, потому что еще только половина десятого, — перебила его Елена, — говорите со всяческой подробностью, все будут только рады.
— Я думаю, что искусство и в происхождении своем и в развитии двояко, хотя два искусства, о которых я говорю, переплетались… Первый корень искусства — игра. Если бы даже игра, развлечение, потеха, как говорил Акинф, была только препровождением времени и лекарством от скуки, то и тогда это была бы почтенная вещь. Лекарство — вещь почтенная, хотя болезнь — вещь неприятная. Раз есть недуг, — необходимо и врачевание. Скука — тоже недуг, и на врачей от скуки так же малозаконно распространять неприятный оттенок, свойственный ей, как и на врачей в собственном смысле слова. Акинф хочет сказать мне, что «болезнь — вещь фатальная, а скука — болезнь праздных»… — Акинф утвердительно качнул головой. — Но, это, очевидно, неверно: песню и пляску, расписанную посуду и вышитую или ярко окрашенную одежду найдешь и среди самого трудового люда. Да и сам Акинф, помнится, сказал, что развлечение нужно также и от тяжкого труда. Так что, если бы искусство имело целью лишь развлекать от скуки или тягости труда, то и тогда оно было бы вещью почтенной. Но искусство-игра имеет не одно это значение. Щепок играет в охоту не потому, что скучает или много трудился: оп растит свои члены, он расходует их энергию, чтобы упражнением их, свободным упражнением, способствовать их росту и гибкости. И что делает щенок, то делало юное человечество. И теперь делает: упражняет тело и душу. Искусство и всякая благородная игра, все это — спорт, гимнастика, в высшем смысле слова. Жизнь, действительность, с ее разделением труда и разными необходимостями, сделала бы человека весьма односторонним, и в нем замерло бы многое, что в том или другом случае ему очень может понадобиться. Дикие племена буквально играют в войну в мирное время и таким образом упражняются. Искусство заставляет в нас жить и функционировать т:. — кие колесики психики и тела, которые заржавели бы от безделья иначе, так как действительность будней к ним не прикасается, до них не доходит. Пожалуй, что нынешнее искусство, неясно понимая эту задачу, не вполне ее выполняет. Но идея искусства-игры, как мне кажется, именно такова, и идея эта важная и высокая. Девочка баюкает куклу, завернутую в тряпку, растит нежность своего сердечка, это — воображаемое дитя ее. Юноша прослезился над судьбою никогда не существовавшей, вероятно, Сони Мармеладовой, — он навыкнет страдать за униженных и заступаться за них, когда придет его час. Но тут я уже вторгся в другую область… Мне лучше было выбрать иной пример, так как искусство Достоевского уже не есть искусство-игра, а искусство-дело, и очень серьезное. Искусство-игра происходит из игры ребенка и дикаря, всегда полуребенка, из полноты сил, просящихся наружу: творец тут дает волю тем элементам своего тела и мозга, работа которых не вызывается внешнею необходимостью, но внутреннею потребностью с упражнении, вследствие накопившейся, ищущей исхода энергии. Воспринимающий радуется рефлективно, потому что и у него начинают играть, я бы сказал, онемевшие было струнки. Искусство-дело имеет своим началом, как мне кажется, стремление убедить богов или людей. Речь человеческая, чтобы быть убедительной, должна быть образной и страстной, или, по крайней мере, желание убедить невольно порождает у художника слова, у какого-нибудь, допустим, умного старца на совете племени — повышение голоса, ритмичность речи и движений; в поисках за аргументами он приводит примеры, рассказывает мифы или прошлое, стараясь изображать их так, как если бы сейчас воочию видел их. И проповедь может производиться не словом только, устно и письменно, но скульптурой и живописью и музыкой, когда она сопровождает слово. Религия, мораль, политика пользовались искусством, находили в искусстве свое выражение. И это просто потому, что сильное чувство захватывает весь организм, все приводит в движение, через все пути бурно ищет выхода и равным образом через все пути ищет войти в душу убеждаемого. Великий проповедник — всегда художник, и истинно великий художник — всегда проповедник. В этом прав Лев Николаевич Толстой, хоть он, со свойственной ему аскетической узостью, вовсе осудил искусство-игру12, и напрасно. Я, однако, согласен, что искусство-проповедь гораздо выше искусства-игры. Что проповедует человек? Самое важное, дорогое, до чего он додумался. И то, что проповедь поднялась до художественной, то есть оделась чувством и образами, свидетельствует об особой важности и святости проповедуемого в глазах проповедника. Искусство-игра есть очень приятная и полезная гимнастика, искусство-проповедь — проявление жизни в ее наивысшей напряженности. И в этом смысле христианин на арене цирка, эстетическим жестом дающий понять толпе, что он верен своему богу и не колеблясь приемлет смерть и страдание ради него, — в моих глазах великий актер. И если он хочет повлиять на толпу, он невольно в жесте своем примет во внимание условие расстояния и сделает его… сценичным. И я скажу, что истинно велик тот артист, который художественным приемом проповедует своего бога и умеет, соответственно своему художеству, и в действительности бороться и страдать за него с художественной цельностью, с красотою силы сосредоточенной и сознательной. — Борис Борисович выпил стоявший на столе стакан пива и продолжал среди общего внимания: