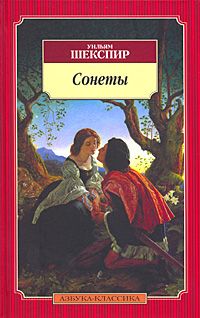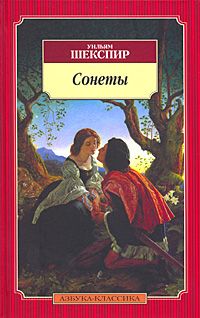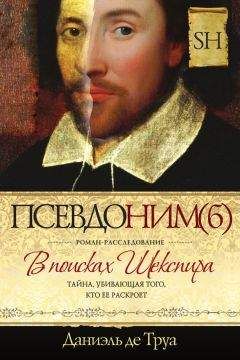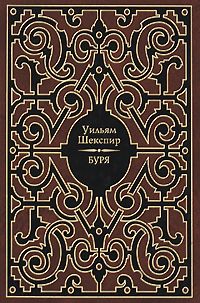Бернгард Бринк - Шекспир, как комический и трагический писатель
Но с этим находится в тесной связи ощущение резкого диссонанса, испытываемое нами в знаменитой сцене 4-го действия. Когда Шейлока не допускают осуществить его кровожадное требование, когда даже он видит себя смертельно пораженным в том, что было для него самого дорогого – это есть не что иное, как поэтическая справедливость. Только против того, что его хотят заставить выкреститься, справедливо восстает наше нравственное чувство. Современники поэта конечно не придавали этому обстоятельству такого важного значения. Но для нашего нравственного чувства дело идет здесь не об одной только поэтической справедливости. Шейлок стал слишком близок нам, мы слишком хорошо узнали причину его ненависти, личность его сделалась для нас человечески слишком значительною, несчастье, поразившее его, вызывает в нас слишком много сочувствия – для того, чтобы мы могли примириться с мыслью, что судьба его, действующая на нас так трагически, не йотирована тоже трагически. Страшно потрясены мы, видя, как человек опирается на свое право, все готов отдать за то, чтоб удержать это право ненарушимым, с часу на час все более и более укрепляется в убеждении, что на него не посягнут – и вдруг чувствует, что почва обрушивается под его ногами, видит, что у него отнимают его право во имя и в форме права. И мы не можем отрешиться от мысли, что нет равномерного соответствия между грандиозною страстью Шейлока и этим судебным решением, вызванным просто счастливою случайностью, софистическим толкованием документа. Мы требуем, чтобы нам доказали необходимость участи, поражающей этого человека, неизбежность его падения. Вполне основательными, истекающими из необходимости мы желаем видеть не только высшие нравственные побуждения его судей, но и мотивы юридические.
Тут диссонанс, не находящий себе разрешения. Шекспиру нельзя было избежать этого. Существеннейшую подробность сказки о тяжбе из-за фунта мяса, в чем собственно и заключалась цель рассказа, его pointe, он не мог и не хотел устранить. Ведь тут скрывается символически глубокая мысль: summum jus, summa injuria; ведь эта подробность была как нельзя более пригодна для того, чтобы дать поэтической справедливости проявиться на Шейлоке в самой энергической форме. Взятая отвлеченно, эта черта удовлетворяет наш разум, вызывает то приятное впечатление, которое обыкновенно получается от умного разрешения трудной задачи. А в комедии отвлеченность бывает нужна нам очень часто, чтобы мы могли испытывать чистое наслаждение. Очень часто при счастливом исходе планов, которые автор сделал для нас особенно интересными, при благоприятном повороте в судьбе лиц, к которым он сумел поселить в нас особенную симпатию, нам не следует представлять себе в слишком живой реальности те нравственные отношения и человеческие индивидуальности, которым этот счастливый исход причинил глубокое оскорбление и сильный вред. Без такого отвлеченного характера только немногие комедии приходились бы нам по вкусу. Но Шекспир в такой значительной степени затрудняет для нас это отвлечение, потому, что сам он на отвлечение неспособен, что все эти действующие лица он изображает с одинаковою симпатией, одинаковою объективностью; оттого в его комедиях развязка очень часто имеет в себе нечто не удовлетворяющее. Обыкновенно этот недостаток заключается в том, что из-за существующей в поэте потребности счастливого исхода ало, выступающее слишком сильно в некоторых из его фигур, не вполне подавляется, вина оказывается недостаточно искупленною. В «Венецианском Купце», наоборот: комическая развязка и трагический характер, трагическая судьба, развивающаяся свойственным комедии путем.
Эта неспособность к отвлечению, в связи с способностью все видеть, сделала бы Шекспиру жизнь невыносимою, если бы боги не наделили его, как своим прекраснейшим даром, неисчерпаемою сокровищницею юмора. Юмор ведь есть то свойство, благодаря которому противоречия между миром и человеческой природой, заставляющие нас самих страдать, делаются для нас сносными, так как мы обращаемь их в предмет эстетического воззрения на вещи – воззрения, вызывающего смешанное чувство скорби и смеха. Между тем как остроумие проявляется в том, что устанавливает неожиданную связь между мыслями несовместными, юмор освещает для нашего внутреннего чувства те противоречия, которые лежит в самих вещах, в наших собственных мыслях, чувствах и действиях. Отношение к собственному я необходимо для восприятия юмористического впечатления точно также, как для восприятия трагизма. Только поставив самих себя в положение страдающего героя, усматривая в постигшей его участи специальный случай в области общей человеческой судьбы, мы бываем потрясены трагическим страданием. И только в том случае, когда в юмористической фигуре можем мы открыть основные линии человеческой вообще и нашей собственной натуры, она подействует на нас сообразно намерению и цели автора.
Юмор, как свойство поэтического творчества, возможен только при полном освобождении поэта от подчинения собственному я. Шекспиру нужно было сделать самого себя предметом своего наблюдения, нужно было и поплакать и вместе с тем посмеяться над противоречиями в своей собственной натуре, для того, чтобы он мог написать «Бесплодные усилия любви» – старейшее из его произведений, в котором победоносно выступает юмор. И с этого времени дитя богов все шире и шире расправляет крылья, и все светлее становятся создания поэта. Юмор одухотворяет Шекспировскую комедию, проникает язык, оживляет характер и навевает целебную прохладу героям его трагедий, постоянно находящимся в сильнейшем напряжении и возбуждении всех своих сил.
Кто хочет уяснить себе глубину и смелость Шекспировского юмора примером, пусть припомнит ту сцену из «Генриха IV», которая – как заметил Гёте – может вызвать у зрителя действительно возвышенную улыбку – сцену, где Генрих Перси Готспор, благородный, вечно деятельный герой, и Фольстаф, гениальный мошенник и бездельник, лежат рядом на земле, один – убитый рукою принца Генриха, другой – из трусости притворяющийся убитым. Или, как пример, в комедии «Сон в летнюю ночь», сцена любви между королевою эльф, Титаниею, и ткачом Основою с приставленною ему колдовством, но вместе с тем очень символическою головою – сцена, в которой Шекспир указывает нам пункт, где божественное и человеческое, идеал и грубейшая действительность соприкасаются, где гений покрывается пылью, где «глубоко униженный, как раб труса, Алкид свершает тяжелый житейский путь», пока наконец,
«Оболочку сбросивши земную,
От людей в огне уходит бог!..»
Или наконец – посмотрите на молнию юмора, сопровождающую глухой раскат грома Шекспировского гнева в словах Изабеллы («Мера за меру») – словах, напоминающих земному величию о его пределах и в то же время говорящих нам, почему с самой высокой точки зрения, с которой все человеческое кажется мелким, нет однако ничего смешного.
Шекспир, как трагический поэт
Если как комический писатель, Шекспир может позволить нам сравнивать его с Мольером и брать французского драматурга масштабом для этого сравнения, то как поэт трагический, он превосходит всякого из последующих поэтов настолько, что сравнение становится невозможным. С одинокой вершины, служащей ему престолом, он видит все остальные верхушки трагического искусства лежащими глубоко внизу под его ногами и нынешним служителям этого искусства представляется недосягаемым образцом, существом нездешним, высшим.
Силу свою, как поэта, как драматурга, Шекспир нигде не проявляет так изумительно, с таким величием, как в своих трагедиях; а что значит трагическое действие, это не объясняет нам ни один древний автор лучше его, и ни один новый так хорошо, как он.
Особенным характером этого действия и средствами, которыми оно достигается, теория неоднократно занималась уже с времен Аристотеля, и частью вследствие неправильного или одностороннего толкования древнего философа, частью благодаря смешению морали с эстетикой, в разные времена создавала нелепейшие воззрения.
Вы не ожидаете, конечно, здесь от меня никакой критики этих воззрений, точно также как и вообще длинного теоретического рассуждения по этому предмету. Позвольте мне тем не менее, прежде чем я обращусь к сути дела, к Шекспиру, сделать несколько необходимых для нашего ориентирования замечаний.
Борьба, которая составляет содержание всякой истинной драмы в трагедии, всегда бывает такого рода, что герой в ней погибает и вызывает в нас такое участие к его страданиям или гибели, что мы чрезвычайно сильно потрясены состраданием и вместе с тем страхом, который основан на том, что в страдающем и погибающем герое мы видим своего равного, в его судьбе усматриваем общечеловеческую и нашу собственную участь, вспоминаем пределы, в которые поставлено человечество. Трагический страх всегда явится сам собою там, где возбуждено трагическое сострадание, но присутствие или отсутствие этого страха может служить указанием, действительно ли наше сострадание достигло трагической высоты, или тут только более высокая или более низкая степень участия, приятная, но не глубоко захватывающая душу растроганность. В конце концов, однако, все сводится к возбуждению трагического сострадания. Чем оно вызывается? Большие размеры мучений, происходящих перед глазами зрителя, для этого недостаточны. Крупное несчастье, сильные страдания могут вызывать также ужас, негодование, отвращение; если это касается человека, для нас дорогого, то каковы бы ни были обстоятельства, боль будет все-таки причинена. Но для возбуждения нашего сострадания необходимо нам открыть связь между страданиями героя и его поступками и поступки героя в связи с его характером и положением понимать так, чтобы мы имели возможность вообразить себя в его положении.