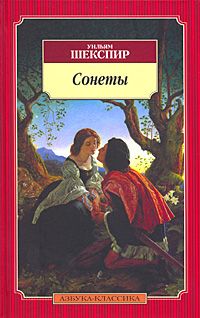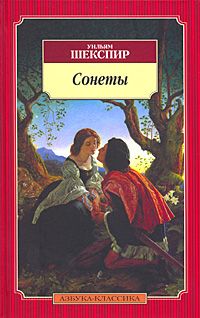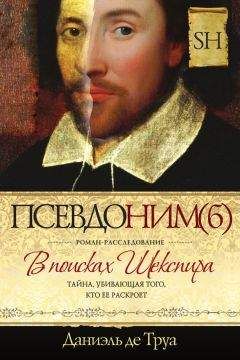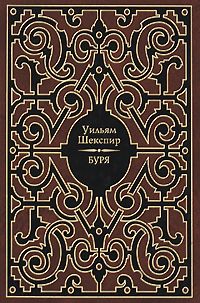Бернгард Бринк - Шекспир, как комический и трагический писатель
Это еще не все. Черты неприятной нравственной испорченности, которую показывает нам комедия Плавта, смягчены деликатною рукой Шекспира, отчасти совершенно переработаны, и вместе с тем введен новый элемент – любовный эпизод с покаместь еще робковатой, но грациозной лирической окраской. Но и этим поэт не ограничился. Его творчеству представилась картина более богатая и глубже задуманная, чем та, которая для обыкновенного писателя получалась из слития во едино двух Плавтовских фабул. Введя в свою комедию личности и судьбы родителей обоих Антифолов, старика Эгеона и Эмилии, он этим дал своей комедии приключений рамку романтически-сказочного, но вместе с тем глубоко серьезного характера. Она в самом начале пьесы показывает нам полное превратностей судьбы прошедшее и открывает в перспективе мрачное, грозящее опасностями будущее, представляя в то же самое время экспозицию фабулы тут же начинающейся комедии; но развязке, сливаясь с тем, что составляет сущность фабулы, она сообщает высоко нравственную серьезность. Когда перед нами легкие и тяжелые ошибки, приключения, невзгоды всех действующих лиц разрешаются благотворнейшей гармонией, когда излечилась боль душевной скорби, когда давно считавшаяся погибшею надежда вдруг неожиданно осуществилась, когда благословение неба щедро пролилось на человека, которому еще за несколько минут до того могила представлялась единственною желанною целью – тогда мы чувствуем и верим, что под загадочною игрою того, что мы называли случайностью, скрывается сознательное действие высшей силы.
Этому чувству, этой вере Шекспир в разные времена давал различное выражение. Уже в только что названном первом произведении своей комической музы ему приятно приспособлять к этой цели детски наивную форму сказки. Но в конце своей поэтической карьеры он возвращается к этой форме, чтобы пользоваться ею более смелым образом. В «Перикле», в «Зимней Сказке», в «Цимбелине» действие происходит с явственным, даже наглядно видимым участием богов. В «Буре» же является пред нами сделавшийся, благодаря силе человеческого духа, властелином мира духов, Просперо, который, собственно, воплощает в себе мудрость, магическую силу и кротость самого Шекспира. Сказочный характер не отсутствует и в самых блестящих комедиях среднего периода, хотя в них он выражается совсем иным образом. они воспроизводят по-своему грезу о золотом веке.
Между тем как большинство остальных драматургов понимает комедию, как верное зеркало окружающей их действительности, и по внутреннему смыслу, и по всей внешней обстановке, Шекспир любит переносить действие своих комедий в обстановку идеальную – под прекрасное, светлое небо, в свежий зеленый лес, на берег моря – в обстановку, сильно возбуждающую воображение и дающую полный простор фантастической игре счастья, представляющую множество поводов для неожиданных встреч, значительных событий, внезапных поворотов судьбы. Драматическое действие обыкновенно запутанное, случаю нередко отводится роль более крупная, чем в трагедии. Мир, который выводится перед нами, следует тем же самым законам, которыми управляется и мир, где мы живем. Но это мир, показываемый с его светлой, озаренной солнечным сиянием, стороны, в безмятежные и счастливые дни – мир, в котором мы чувствуем явственнее, чем в нашей действительности, присутствие благого Промысла. Существа, вращающиеся в этом мире – люди плоти и крови, с такими же склонностями, страстями, слабостями, особенностями, какие присущи людям, нас окружающим. Но страсть в них не подымается на трагическую высоту; порочному, злому не дается возможность достигать своей цели; награда за доброе дело дается щедрее, чем где бы и когда бы то ни было, наказание гораздо мягче, часто даже меньше обыкновенного на большую половину. Во многих случаях грех искупается раскаянием. Все поведено так, чтобы злое было побеждено добрым, чтобы действие могло иметь благополучный исход. Иногда неподатливость материала или слишком глубоко забравшая и потом снова взлетевшая фантазия поэта служит причиною тому, что развязка представляется нам недостаточно мотивированною, а в драмах самого раннего и самого позднего периодов даже отчасти оскорбляет наше чувство поэтической справедливости.
Такое оскорбление причиняет нам в особенности одна пьеса, которую обыкновенно не подводят под рубрику собственно комедий, но которая Шекспиром была задумана как комедия – именно «Венецианский Купец». Здесь это ощущение находится в тесной связи с трагическим подъемом, который совершился с одним из действующих лиц; я говорю о самом Шейлоке.
Шейлок принадлежит к самым законченным характерам, какие создавал Шекспир, хотя на объяснение его он уделяет относительно немного места. Концепция этой фигуры грандиозна в такой же степени, в какой высоко-художественна постановка её в действии. Уже первые слова, произносимые Шейлоком, характеристичны, но еще характеристичнее – как он их произносит, и при каждом слове его вам кажется, что этот человек действительно стоит перед вами, и вы сами дополняете мимику и жестикуляцию, которыми сопровождаются его речи. Точно также, как в «Ричарде III». Шекспир дает здесь актеру почтенную и в высшей степени благодарную задачу.
Оба эти характера схожи между собою в том, что сильная страсть владеть ими с демоническою мощью. У Шейлока это любовь к собственности, к деньгам. Увлечение этою страстью мало-помалу превратило его сердце в камень. Не всегда было оно так черство; пробуждающееся по временам нежное воспоминание его об умершей жене, о том времени, когда он был женихом, кидает мягкий, хороший свет на ту пору. «Я получил от Леи кольцо в те годы, когда был еще юношей… За целый лес обезьян не отдал бы я его…» Те остатки нежности, теплоты, которые он еще ощущает в себе, принадлежат прошедшему, имеют исторический, традиционный характер. Чисто традиционны и внешне его отношения к дочери; он всегда так мало понимал ее, так мало заботился о её внутренней жизни, так мало старался действовать на нее нравственно, и она так страдает под гнетом его жестокой бесчувственности, так трудно ей уважать его, что отцовский дом сделался для неё адом, что из любви к Лоренцо она убегает от своего отца, как от тюремщика, и ни малейшее движение дочернего чувства не заставляет ее поколебаться в этом поступке.
Бегство её – страшный удар для Шейлока; его родительский авторитет, честь его дома позорно потрясены, но сильнее всего скорбит он о потере своих драгоценностей и своих червонцев.
Будучи бессердечным отцом, безжалостным ростовщиком, Шейлок однако чтит – по-своему – религию. Здесь главное для него дело – строгое соблюдение буквы закона, в увеличении своего богатства он видит благословенье божье: «Барыш есть благословение, когда его не воруешь». Если сердце его умерло для любви, то тем живее в этом сердце ненависть. Он ненавидит христиан вообще, но более всех – Антонио, которого великодушие, гуманность резко противоположны его собственным свойствам, и который является ему помехой в его денежных делах:
«Его за то так ненавижу я,
Что он христианин; но вдвое больше
Еще за то, что в гнусной простоте
Взаймы дает он деньги без процентов
И роста курс сбивает между нас,
В Венеции. Пусть мне хоть раз один
Ему бока пощупать доведется –
Уж ненависть старинную свою
Я утолю…»
Каким же образом Шекспир мог сделать этого человека симпатичным для нас, заставил нас сочувствовать его судьбе? Прежде всего тем, что он делает Шейлока, каков он есть, вполне понятным для нас, открывает нашим глазам его душу, дает нам повод ставить самих себя в его положение. Шейлок – еврей, он принадлежит к тому избранному народу, который носит на себе проклятие векового рабства, которого преследовали, грабили, мучили и теперь еще при всяком удобном случае оскорбляют, топчут ногами. Это историческое освещение, в которое ставит поэт эту фигуру, возвышает ее и вместе с тем делает человечески понятной. «Он ненавидит мой священный народ», может сказать Шейлок об Антонио, и хотя этот мотив для него лично только один из многих и не самый сильный, но, по-видимому, все остальные мотивы, которыми обусловливается его образ действий, находят себе известное оправдание в этой связи с первым. Когда Шейлок говорит: «Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу, что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием и подвержен не тем же болезням? лечится не теми же средствами? согревается и знобится не тем же летом и не тою же зимою. Когда вы нас колете, разве из нас не идет кровь? Когда вы нас щекочете, разве мы не смеемся? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем, а когда вы нас оскорбляете, разве мы не отомщаем? Если мы похожи на вас во всем остальном, то хотим быть похожи и в этом!..» – когда он говорит такие слова, мы сочувствуем ему, он, как человек, становится близок нам.