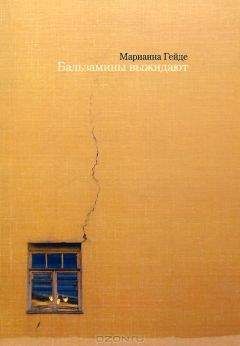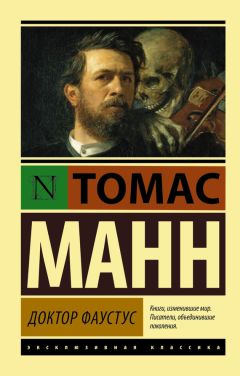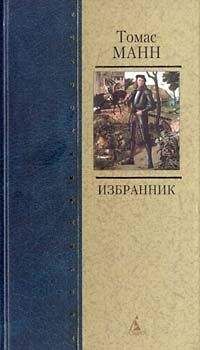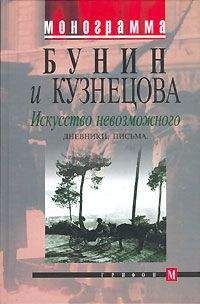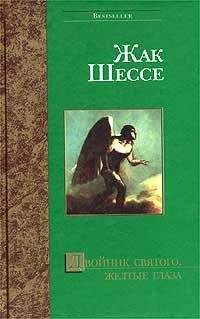Петер Надаш - Тренинги свободы
Если взглянуть на творчество Томаса Манна со стороны его дневников, хорошо видно, как отсутствие метафизического представления о мире он компенсирует стилистическим, как обращает негативные душевные состояния — с помощью юмора и иронии — в позитивные. Он смиряет свои сомнения, но от потрясенности его все же остаются некоторые слабые следы. Протоколом этой ментальной деятельности и является дневник. Всеми тайнами жизни он занимается в нем лишь с точки зрения своей работы, и потому у него нет ни одной такой личной тайны, следы которой не обнаружились бы в его произведениях; но нет и таких тайн, которые получили бы отражение в дневнике в полном объеме и в исходном виде.
В произведениях своих он является нам в роли добродушного, холеного, понимающего, хорошо пахнущего, нежного, зрелого в своей просвещенности, всепримиряющего отца. Те, кто мог похвастаться подобными добродетелями, приветствовали в этом образе самих себя; а те, чей разум измучен отсутствием личной свободы, жаждали найти для себя такого же духовного наставника, наделенного такой же отеческой ролью. Устами Аттилы Йожефа я просил, ты просил, мы просили, чтобы он сел на край нашей детской кроватки и рассказывал, рассказывал нам сказки. Однако тот, кто на самом деле сел на краешек нашей постели, оказался не Гермесом — и обстоятельство это для человека, читавшего его дневники, ясно, как белый день, — а Кроносом. Который, не правда ли, обрел власть над миром, кастрировав своего отца, Урана (читай: небо), и вот-вот пожрет собственных детей.
Кроноса мы, понятное дело, упрекать ни в чем не имеем права; вынося моральный приговор Томасу Манну, рассказывающему сказки, мы тоже должны соблюдать сдержанность. Не он обманул нас, отнюдь. У него не найдешь ни одной, даже самой убаюкивающей сказки, в которой нельзя было бы заметить предупреждающих знаков: внимание! тут я гипнотизирую тебя, читатель! тут я мошенничаю, завораживаю! Да, это мы, в незрелости своей, бывали слишком доверчивы, это мы часто не замечали того, чего не хотели замечать. Собственные дети называли его (слово это было употребительным в доме) «волшебником», что удовлетворяло царящие в семье общие амбиции и к тому же было истинной правдой. Есть люди, которые знают много; но, как ни трудно нам это признать, есть и такие, кто знает все, что можно знать. Дневники эти — как документы много-, а может быть, и всезнания — в новом свете показывают нам хорошо, казалось бы, известную личность Томаса Манна и его произведения, которые, как мы считали, нам тоже вполне известны. В этом новом свете нам являются если и не другое творчество и не другая личность, то, во всяком случае, такой человек, который живет под знаком самой трепетно охраняемой и самой сокровенной тайны либерального мышления: человек страдающий. Это и оказалось истинно современным и подлинно своевременным зрелищем в глазах тех поколений, которые, отвергая его стилистику, но следуя его образу мысли, ориентирующемуся на человеческий разум, выбросили из словаря литературы даже само понятие страдания.
Должен подчеркнуть, что публикация дневников, подготовленная Петером Мендельсоном, тоже не лишена купюр, хотя Мендельсон и говорит в предисловии, что он не сокращал текст сохранившихся тетрадей. Воздав должное принципиальности и честности издателей, он тут же вынужден заметить, что, с величайшей щепетильностью относясь к самому сокровенному в душе человеческой, он — «крайне редко» — все же позволял себе удалить «несколько фраз или всего несколько слов», обозначая пропуски точками в квадратных скобках. В тетрадях, относящихся к тысяча девятьсот двадцатому году, мы обнаруживаем, например, два таких места, которые в какой-то (неизвестно, правда, в какой именно) части стали жертвой издательской осторожности Мендельсона, в остальном заслуживающего всяческого восхищения и признания.
Автору дневников в это время сорок пять лет. В конце записи, датированной пятым июля, мы находим такой вот краткий и удивительный пассаж: «В эти дни я влюбился в Клауса. Мотивы для новеллы отец-сын. — Динамично в духовном плане». Клаусу, которого в семье звали Эйси, к этому моменту не было еще четырнадцати. Купированная же фраза порождает неясность, недоговоренность позже, в записи, сделанной спустя девять лет и относящейся к сфере самых интимных взаимоотношений писателя с женой, которой тогда было тридцать семь. Рефлексии, связанные с отсутствующей частью, мы встречаем потом еще раз. Тут он пишет, что ему не совсем понятно собственное состояние: об импотенции, собственно, едва ли можно говорить, скорее — об обычном сбое, о нестабильности «половой жизни». Показательно, что в этом предложении слова «половая жизнь» он ставит в кавычки, словно не считая всерьез, что подобное вообще может существовать как функция, которую можно рассматривать отдельно от личности в целом; то есть думает он совершенно правильно, хотя кавычки служат как раз для обозначения дистанции между каким-либо событием и личностью того, кто об этом событии рассказывает. Нет сомнения, пишет он в следующей фразе, что к желаниям, «исходящим с другой стороны», его толкают собственные досадные слабости. Что было бы, спрашивает он себя, снова прибегая к кавычкам и употребляя весьма богатый ассоциациями, поддающийся разным толкованиям оборот, — что было бы, если бы вместо жены «перед ним лежал» — или «был в его распоряжении?» — мальчик? Ответ, который должен следовать на этот риторический вопрос, ему и писать не нужно: конечно же, дело пошло бы успешно, конечно же, он не проявил бы себя импотентом. Во всяком случае, едва ли можно представить, пишет он далее, чтобы неудача, причины которой для него не новы, каким-то образом обескуражила бы его. Легкомыслие, прихоть, равнодушие, уязвленное самолюбие — вот самые уместные в этой ситуации понятия: хотя бы уже потому, что они — лучший в таких случаях «целебный эликсир». И в последующие дня, когда работоспособность у него «хуже некуда», он выполняет эту намеченную себе программу. Дальнейшие записи не оставляют сомнений и в том плане, кто именно был тем самым «мальчиком» и какой именно переброс внимания мог стать причиной импотенции. «Восторг» его вызван Клаусом, который «пугающе привлекателен в ванне».
Для решения подобной жизненной ситуации нужно располагать сверхчеловеческими способностями — или, если ты таковыми не располагаешь, с покорностью подчиниться судьбе и скатиться к трагедии. Третьего варианта не дано. Если, подчинившись настоятельному велению культуры, он отделит свою половую жизнь от личности в целом и будет рассматривать потенцию как мерило успеха, то ему придется считаться с очевидной неуспешностью и пережить крах созданного о самом себе представления. Если же, напротив, рассматривать тягу к собственному сыну как неотъемлемую часть своей личности, тогда придется отвергнуть всю культуру, в которой он воспитан. Последнее он выбрать не может, ибо тогда неминуемо вырвется наружу сидящий на цепи дух отрицания.
«Я нахожу вполне естественным, что влюблен в своего сына». Эта фраза, со стилистической точки зрения, представляет собой логическое решение ситуации. Если она естественна, то не может быть крайностью, а если она не является крайностью, то нет и необходимости впадать в панику, — это и есть тот, высвобождающийся из-под веления культуры, художественный успех, который может повести писателя дальше, к новелле, которую ему предстоит написать. Несколькими строками ниже мы видим, как он, во власти этого приятного и свободного от всякой принужденности чувства, сидя в вагоне поезда, идущего в Мюнхен, беседует с соседом по купе, симпатичным молодым человеком в белых брюках. «Радость по этому поводу. Видимо, я окончательно рассчитался с женским началом?» Из вопроса, выполняющего здесь функцию утверждения, нам словно подмигивает гетевский идеал вечной женственности, причем вопрос звучит как раз в той легкомысленной, прихотливой интонации, к которой он призывал себя обратиться — ради разрешения ситуации. Однако далее стиль этот он не может развивать, так как прибывает домой. «Я со всеми поздоровался, приехав на извозчике, которому заплатил 20 марок. Эйси, загорелый по пояс, валялся в постели с книжкой; зрелище это меня смутило. — Вчера — день рождения К. Утром — подарки, она получила новый велосипед. В полдень — короткая прогулка с Эйси, разговаривал с ним о статье. К родителям К. на чашку какао. Вечером пикник в саду у д-ра Маннергейма…», где: «Разговаривал со многими; кстати, все — мужчины, как то существо, которое в конце концов «познало» меня. Пешком домой, очень поздно, уставший в постель». Слово, в немецком тексте поставленное в кавычки, истолковать нелегко: по контексту и по интонации можно предположить, что речь идет об имевшем возможность совершиться или даже совершившемся эротическом приключении.
Автор дневника, во всяком случае, в какой-то степени успокаивается: он нашел выход для опасного влечения и тем самым выполнил данный себе обет. Он удостоверил перед самим собой свою способность, а значит, сумел без моральных травм закрыть противоестественное влечение, введя его в сферу действия естественности. И все же спустя два дня мы встречаем такие строки: «Вчера вечером читал новеллу Эйси, раздерганную мировой скорбью, и, терзаемый слабостями, критиковал ее у его постели, чему он, я думаю, был рад». Если знать то, что предшествовало и сопутствовало этому, не требуется, вероятно, большая сила воображения, чтобы понять, к какой критической точке подошла страсть «терзаемого слабостями» автора дневниковой записи. Возможно, именно отеческая критика, опирающаяся на писательский авторитет, уберегла его от того, от чего он уберег сына. Видимость висела на волоске от реальности.