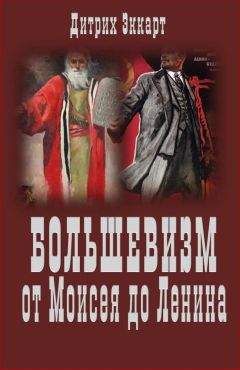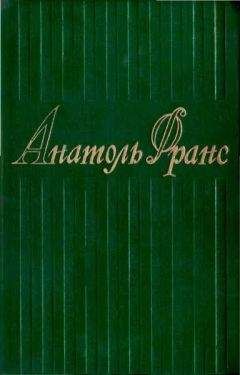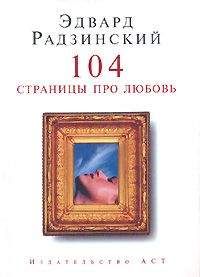Виктор Гюго - Том 14. Критические статьи, очерки, письма
Цитируем стихи:
Гликера нам, друзья, сегодня стол накрыла!
Красотку Амели и Розу пригласила!
А Розы пляшущей игриво-томный вид
Желаньем буйным нас зажжет и опьянит!
. . . . . . .
Да, с вами я иду, меня вы убедили,
Но только бы никто не рассказал Камилле!
Об этом празднестве проведает она,
И вот, не будет мне ни отдыха, ни сна.
О, нет владычицы ревнивей и жесточе!
Другой прелестницы уста, улыбку, очи
Мне стоит похвалить, затеять на пиру
С какой-нибудь другой невинную игру —
Она увидит все. Пойдут упреки, стоны.
Нарушил клятвы я, любви попрал законы,
А нынче только все о том и говорят,
Как я разлучницы ловил ответный взгляд
И слезы без конца… Не столько слез, наверно,
Исторг Мемнона прах у матери бессмертной!
Да что там! Кулаки она пускает в ход…[8]
А вот еще стихи, в равной мере сверкающие разнообразием цезур и живостью оборотов:
Не столь красивая полюбит горячей,
Она заботливей, и нежность есть у ней.
Боясь утратить страсть — она вся ожиданье,
Она любовников не привлечет вниманье;
Спокойный, ровный нрав, веселости черты,
Привязчивость — все в ней замена красоты.
А та, которая сердцами правит властно
И о которой все твердят: «Она прекрасна!»
Готова оскорбить нежнейший вздох любви.
Привычка властвовать живет в ее крови.
Капризная во всем, взращенная изменой,
Она нежна сейчас, чтоб завтра стать надменной.
Все безразлично ей; и тот, кто ускользнуть
Сумеет от нее, обрел достойный путь.
Она влечет сердца, пленяет, удивляет,
Но ту лишь знает страсть, которую внушает.[9]
Вообще, как бы ни был неровен стиль Шенье, у него мало страниц, где мы не встречали бы образы, подобные, например, таким:
Возлюбленного гнев отходчив, без сомненья.
Ах, если б видел ты ее, твое мученье,
В смущении, в слезах клянущую свой рок;
Без унижения и сам тогда б ты мог
Приблизить нежный миг прощенья, оправданья.
Лишь кудри разметав, сдержавшая рыданья,
В небрежности одежд, печальна, смущена,
С мольбою на тебе задержит взор она.
Забудь свой пылкий гнев и горькие упреки,
Прощенье ей вернет твой поцелуй глубокий.[10]
Вот еще отрывок, уже в другом роде, но столь же энергический и столь же грациозный; кажется, будто читаешь стихи кого-то из наших старых поэтов:
Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.[11]
Нет сомнения, что живи Шенье дольше, он оказался бы со временем в первом ряду наших лирических поэтов. Даже в его бесформенных опытах уже видны все достоинства его поэтической манеры, видны страстность и благородство мыслей, свойственные человеку, думающему самостоятельно; кроме того, везде вы замечаете гибкость стиля — то изящные образы, то подробности, выполненные с самой смелой простотой. Его оды в античном духе, будь они написаны по-латыни, послужили бы образцом одушевления и энергии, и при всем их латинском облике в них нередко встречаешь строфы, от мужественной и своеобразной окраски которых не отказался бы ни один французский поэт.
Надежды нет! Напрасен труд!
Ведь людям сладостно во прахе пресмыканье.
Они в нем даже честь найдут.
Глазам их вреден свет, и им докучно знанье.
Мы взвешивать свои деянья
Поручим случаю, — и только властный прав.
Не доблесть — лишь успех мы увенчаем славой.
И не осудим меч кровавый,
Который все сразил, победно возблистав.[12]
И дальше:
Ты властвуешь, народ. Так будь же судией
Бессовестной придворной клики.
Их тешило, когда на лире золотой
Окровавленною Нерон бряцал рукой
И воспевал пожар великий.[13]
Об Андре Шенье нельзя иметь неопределенное мнение. Надо либо вовсе отбросить книгу, либо обещать себе часто ее перечитывать; его стихи нельзя судить, их надо чувствовать. Они переживут весьма многие из тех, которые сегодня кажутся лучше их. Может быть, как наивно заявлял Лагарп, потому, что в них и в самом деле что-то есть. Вообще же, читая Шенье, заменяйте слова, которые не нравятся вам, соответствующими латинскими, и редко при этом у вас не получатся хорошие стихи. К тому же, у Шенье открытая и широкая манера древних; пустые антитезы у него редки, зато часты необычные мысли и живые картины; и повсюду — печать глубокой чувствительности, без которой нет гениальности и которая, возможно, сама и есть гениальность. В самом деле, что такое поэт? Человек, чувствующий сильно и высказывающий свои чувства выразительным языком. Поэзия — это почти только чувства.
* * *Среди нового поколения, родившегося вместе с веком, появляются уже великие поэты.
Подождите еще несколько лет.
Сынам, выросшим из посеянных в поле зубов дракона, не требуется во весь рост вставать из земли, чтобы в них признали воинов; и, увидев одни только железные перчатки Эрикса, вы можете судить о силе атлета.
ФАНТАЗИЯ
Апрель 1820
Литературный год начинается прескверно. Ни одной значительной книги, ни одного пламенного слова; ничего поучительного, ничего волнующего сердце. А между тем пора бы уже, кажется, чтобы из толпы вышел человек и сказал: «Вот я!» Пора бы уже появиться книге или учению, Гомеру или Аристотелю. Бездельники могли бы тогда хоть поспорить — это пробудило бы их от спячки.
Но что можно сказать о литературе 1820 года, еще более плоской и незначительной, чем была литература 1810 года, — ей это еще более непростительно, ибо уже нет Наполеона, который завладевал всеми талантами и делал из них генералов. Кто знает, быть может в лице Нея, Мюрата и Даву мы потеряли великих поэтов? Хотелось бы, чтобы в наши дни писали так же, как они сражались.
Какое жалкое наше время! Много стихов — и никакой поэзии; много водевилей — и никакого театра. Один Тальма, вот и все.
Я предпочел бы Мольера.
Нам обещан «Монастырь», новый роман Вальтера Скотта. Тем лучше, только пусть он появляется поскорей, а то наши литературные ремесленники будто одержимы какой-то манией строчить дурные романы. У меня лежит целая груда этих книг, но я даже не собираюсь их открывать, ибо в них вряд ли найдется даже то, чего требовала от кости собака, о которой повествует Рабле, — «Rien qu'ung peu de mouelle». [14] Литературный год — сер, политический год — мрачен. Заколот кинжалом герцог Беррийский, повсюду революции.
Убийство герцога Беррийского в опере — это трагедия. А вот и пародия: последние дни разгорелся крупный спор по поводу г-на Деказа. Г-н Донадье выступает против г-на Деказа, г-н Аргу против г-на Донадье, г-н Клозель де Куссерг против г-на Аргу.
Может быть, г-н Деказ выступит, наконец, сам? Все эти споры напоминают мне старую сказку, в которой отважные рыцари вызывали на бой злых великанов, укрывшихся в своей крепости. А при звуке рога всегда появлялся карлик.
Мы видели уже несколько карликов; теперь мы ждем великана.
Главным политическим событием 1820 года было убийство герцога Беррийского; главным событием литературной жизни — водевиль, не помню уже какой. Когда же наше время обретет, наконец, литературу, стоящую на уровне его общественного движения, когда же будут у нас поэты столь же значительные, как и события?
О ПОЭТЕ, ПОЯВИВШЕМСЯ В 1820 ГОДУ
Май 1820
IВы над ним посмеетесь, люди света, вы пожмете плечами, люди пера, мои современники, ибо скажу вам потихоньку, среди вас, вероятно, нет никого, кто бы понимал, что такое поэт. Разве его встретишь в ваших дворцах? Разве его увидишь в ваших кабинетах? И уж если зашла речь о душе поэта, так ведь тут первейшее условие, по выражению одного красноречивого оратора, — никогда не размышлять ни о цене лжи, ни о плате за подлость. Поэты моего времени, есть ли среди вас такой человек? У кого в ваших рядах уста способны говорить о великом — «os magna sonatorum», у кого из вас железный голос — «ferrea vox»? Где тот, кто не склонит голову ни перед прихотями тирана, ни перед гневом партии? А вы все подобны струнам лиры, звук которой меняется с переменой погоды.